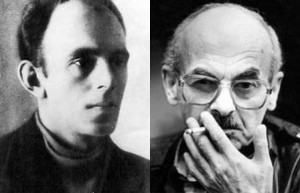Мандельштам и Окуджава: мир и лирический герой
На первый взгляд, имена Мандельштама и Окуджавы в истории русской поэзии ХХ века представляются максимально отдаленными друг от друга. С творчеством Мандельштама неизменно связывают представление о высшей сложности поэтического слова, с лирикой Окуджавы – о его высокой простоте. Истоки творчества Окуджавы видятся, скорее, в поэзии символизма, возможно, — в лирике Пастернака. Несмотря на это, мандельштамовские ассоциации при чтении Окуджавы естественны – и почти неизбежны. С.С. Аверинцев, определяя бытование поэтического – произносимого и пропетого – слова Окуджавы, вспоминает неметафорический, по его мнению, образ «шевелящихся губ» у Мандельштама.1 Словами Мандельштама «Серная спичка» назвал свою статью, посвященную памяти Булата Окуджавы, Г.С. Померанц.2 Ряд подобных ассоциаций неоднократно возникал в статьях Г.А. Белой, С.Н. Бройтмана, Л.С. Дубшана и других исследователей творчества Окуджавы.3 Насколько обоснованы эти ассоциации?
При несомненном различии творчества названных поэтов можно выделить хотя и неширокую, но очень значимую сферу их непосредственного соприкосновения. Это «московский цикл» Мандельштама 1931 года и ряд «московских» стихов Окуджавы, главным образом, второй половины 1950-1960ых годов. Нити, протянутые от этих стихов к автобиографической прозе обоих поэтов и к поздней лирике Окуджавы, открывают новые смысловые пространства их творческих пересечений.
«Московский текст» в русской литературе явился, в отличие от «петербургского», главным образом, порождением ХХ века.4 Быстрая перестройка Москвы, изменение ее архитектурного облика и внутренней атмосферы обращали писавших о ней к осмыслению проблемы временного и неизменного, эпохи и человека. Открытие Москвы как особого мира требовало ее личностного освоения. Такой попыткой лирического «вживания» в свое и одновременно чужое московское пространство представляются и названные поэтические циклы Мандельштама и Окуджавы. Город – это тот мир, в освоении которого и в контакте с которым проявляется сущность сознания лирического героя. Урбанизм каждого из рассматриваемых поэтов был естественным, органическим; «городолюбие, городострастие, городоненавистничество» (слова Мандельштама о Данте) в обоих случаях определяло спектр взаимоотношений поэта с миром. Этим, в значительной степени, определяется неожиданная близость названных лирических циклов (в данном случае речь не идет об осознанном следовании Окуджавы мандельштамовской поэтической традиции).5
Исходная ситуация создания «московских» стихов для каждого из поэтов – это возвращение автора в Москву после многолетней разлуки и более чем серьезных перемен, произошедших за это время с ним, городом и страной.
Для Мандельштама – петербуржца, долгое время не принимавшего уклада московской жизни и всего «московского» периода русской истории («Все чуждо нам в столице непотребной…» — 1918) – Москва была чужим миром, и все же переезд в нее был осмыслен именно как возвращение к миру, себе и стихам:
В год тридцать первый от рожденья века
Я возвратился, нет, читай, насильно,
Был возвращен в буддийскую Москву…6
По словам Н.Я. Мандельштам, «летом 31-го года в полной изоляции, на Полянке, обольстившись рекой, суетой, шумом жизни, он поверил в грядущее, но понял, что он уже в него не войдет».7 Следствием этого обольщения стала постоянно повторяемая Мандельштамом болезненная попытка примириться с настоящим, согреться его «серной спичкой». Значим сам факт временного соседства «московского» цикла с «волчьим»: вызов века на смертельный поединок и неудержимое тяготение к нему – два полюса сознания, реализованных в мандельштамовской лирике начала 1930ых годов.
Обстоятельства возвращения Окуджавы были иными уже потому, что Москва была для него миром изначально своим, обжитым, сокровенным («арбатство, растворенное в крови» – позднейшая формула родства, почти аналогичная мандельштамовским словам о Петербурге: «город, знакомый до слез, до прожилок, до детских припухлых желез»). Но возвращение было болезненным – Москву заново узнавал человек с обретенным вне родного города жизненным опытом и многолетней болью отверженности: «Замереть на маминой груди, позабыв все на свете: и Калугу, и горькие годы разлуки, и вчерашнюю войну…» («Приключения секретного баптиста»).8 Вживание в московский мир, вхождение в него (в прямом и переносном смысле) осложнялось ощущением неустойчивости, смутной надеждой и неясной «мелодией утрат». Другой стала и Москва. «Все переменилось, и Москва тоже. Открылись глаза, и стали заметнее, всплыли из небытия ее закоулки, клопы и тараканы, ее пивные в чаду и при тусклом свете, и страх в глазах, и ненадежность бытия (выделено мной – М.Г.). И все это не уравновешивалось ни Кремлем, ни Красной площадью, ни новыми проспектами и мостами. Напротив, в Москве как бы сосредоточилась затяжная беда и не выветривалась. Нет, Иван Иваныч не анализировал всего этого, не обобщал. Он был составной частью большого города, он приспособился к этому быту. Но, видимо, человеческое в нем не было побеждено окончательно, вот оно и выплескивалось, и протестовало, и маячило, как бельмо на глазу» («Подозрительный инструмент»).9
Неотделимый от плоти и крови Москвы, лирический герой и Мандельштама, и Окуджавы, по сути своей, — «маленький человек» с присущей ему болезненной уязвимостью, постоянной оглядкой на отсутствующего собеседника, ожиданием реакции «другого».10 Возводивший свою родословную к Макару Девушкину и капитану Голядкину, Мандельштам одновременно осознает себя «маленьким человеком» и силится отделить себя от него. Наиболее отчетливо подобное раздвоение проявляется в прозе конца двадцатых годов, в судорожном восклицании «Египетской марки»: «Господи! Не сделай меня похожим на Парнока! Дай мне силы отличить себя от него!».11
В автобиографической прозе Окуджавы сознание «маленького человека» раскрывается в его постоянной попытке увидеть себя со стороны, чужими глазами. Условием такого взгляда нередко становится временная дистанция, когда перед нами возникает своеобразная «очная ставка» ироничного автора и его беззащитного героя (подобные отношения связывают в «Египетской марке» Мандельштама и Парнока). «Представляю, как смешно я выглядел: расставленные ноги, и руки в карманах шинели, и пилотка, натянутая на уши… Мне бы только шапку-ушанку, и я не выглядел бы таким жалким». («Будь здоров, школяр»).12 «Трудно сейчас представить, как я все это проделывал? Я ли то был, тот кривоногий солдатик с оттопыренными ушами, выброшенный из домашнего убогого тепла прямо в ожесточенные пятерни лейтенанта Ланцова?» («Уроки музыки»).13
Тщедушность, малость, болезненная уязвимость лирического героя (отнюдь, кстати, не соответствующая реальным внешности и поведению авторов) становится предметом постоянной рефлексии обоих поэтов. Движения, внешность, походка – все оценивается пристрастным взглядом стороннего наблюдателя, причем его роль может принимать на себя и иронически оценивающий себя и свои былые иллюзии автор:
Бывали, дни такие – гулял я молодой,
Глаза глядели в небо голубое,
Еще был не разменян мой первый золотой,
Пылали розы, гордые собою.
(Б.Ш. Окуджава, «Арбатский романс»)14
Бывало, я, как помоложе, выйду
В проклеенном резиновом пальто
В широкую разлапицу бульваров…
………И пахло до отказу лавровишней…
Куда же ты? Ни лавров нет, ни вишен…
(О.Э. Мандельштам, «Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето»)15
Особым знаком вхождения героя в мир, его причастности к «суровой эпохе» становится одежда – нескладная оболочка, позволяющая отрешиться от своей отчужденности, хотя бы на время забыть о ней и раствориться в мире. Одежда становится обоснованием собственного «я», ее выбор – выбором судьбы. Осознание себя современником века невозможно у Мандельштама без описания нелепого пиджака, делающего его неотличимым от собратьев по городу и веку:
Пора вам знать, я тоже современник,
Я человек эпохи Москвошвея, —
Смотрите, как на мне топорщится пиджак,
Как я ступать и говорить умею!16
Подчеркнутая декларативность этого восклицания – внешняя сторона напряженной неуверенности героя. Свое право быть неотъемлемой частью века («Попробуйте меня от века оторвать, — // Ручаюсь вам – себе свернете шею!») Мандельштам готов отстаивать в поединке со всеми, кто усомнится в его причастности времени.
Так же – со стороны, чужими глазами, скользящими по человеку, фиксирующими внимание на одежде, а не на сущности, оценивает своего героя и Булат Окуджава. «Серый костюмчик» в его ранней песенке – это утверждение себя частью мира и просьба о жалости к себе; благодаря невыразительной простоте одежды здесь стирается граница между «я» и «другими», между поющим и слушающими:
На мне костюмчик серый-серый,
Совсем, как серая шинель.
И выхожу я на эстраду
И тихим голосом пою.
А люди в зале плачут-плачут –
Не потому, что славен я,
И не меня они жалеют,
А им себя, наверно, жаль.17
Позже особым знаком судьбы становится у Окуджавы «старый пиджак»:
Я много лет пиджак ношу,
Давно потерся и не нов он,
И я зову к себе портного,
И перешить пиджак прошу.18
Вместе с потершимся пиджаком стареют надежды лирического героя и его попытки «перекроить все иначе». В предполагаемом диалоге со старательным портным рождается особая мудрость – «надежда на счастливый исход и сознание ее необоснованности».19 К теме «старого пиджака» Окуджава возвращается и в поздних стихах, в то время, когда надежда уже окончательно вытеснена мудрой самоиронией и трезвым знанием времени:
Поистерся мой старый пиджак,
Но уже не зову я портного:
Перекройки не выдержать снова –
Доплетусь до финала и так.20
Архетипический сюжет, связывающий приведенные стихи Окуджавы и Мандельштама, конечно же, гоголевская «Шинель», осмысленная в трагикомических реалиях ХХ века. По словам С.Г. Бочарова, «история новой шинели – это словно попытка Акакия Акакиевича воплотиться в формы мира, войти в его измерения».21 Подобная попытка всегда обречена на неудачу, и печальный эпилог дописывает здесь сама жизнь.
Особым предметом авторской рефлексии одежда становится и в прозе каждого из рассматриваемых авторов: сюжет «Шинели» сходным образом варьируется в «Египетской марке» Мандельштама22 и в «Искусстве кройки и житья» Окуджавы. Рубашка Парнока, доставшаяся ротмистру Кржижановскому, и так и не сшитое кожаное пальто в автобиографическом рассказе Окуджавы воплощают мечту об иной жизни – возможной, но нереализованной. Насмешка над своим героем и печаль о несовершенстве мира определяют смысловой и интонационный фон обоих произведений.
Обоснованием своей связи с эпохой и, соответственно, миром новой Москвы становится для каждого из поэтов и утверждение исторической причастности к произошедшим переменам. Подобно тому, как Мандельштам сохраняет верность разночинским идеям («Для того ли разночинцы// рассохлые топтали сапоги, чтоб я теперь их предал?»), Окуджава утверждает свою преемственность по отношению к «комиссарам в пыльных шлемах». Подобное отношение к прошлому отнюдь не предполагает его идеализации (в чем нередко упрекали Окуджаву); оно является, прежде всего, утверждением верности идеям своей юности и, опосредованно, своего права на настоящее.
Созвучны и ключевые образы двух московских циклов – метафорические проекции лирического «я». От «трамвайной вишенки» Мандельштама («Я трамвайная вишенка страшной поры// я не знаю, зачем я живу»)23 тянется нить к «московскому муравью» Булата Окуджавы («Но я московский муравей, и нет покоя мне -// так было триста лет назад и будет так всегда»).24 В основе каждой из этих метафор лежит осознание себя болезненно малой частью целого, причем целого хаотического и нелепого, любимого и отторгающего.
Несомненно при этом и различие. «Трамвайная вишенка» Мандельштама – исключительный в контексте его «московского» цикла трагический образ. Москва в стихотворении «Нет, не спрятаться мне от великой муры…» – это воронка, сулящая смерть. Ее аморфность зловеща, а московский трамвай везет героев в небытие:
Мы с тобою поедем на А и на Б
Посмотреть, кто скорее умрет,
А она то сжимается, как воробей,
То растет, как воздушный пирог.25
Поэзии Окуджавы подобное обостренно трагическое восприятие жизни несвойственно. В его «московских» стихах звучит иная интонация – мудрой печали, грустного знания. Его лирический герой — «московский муравей», — сознавая свою малость, создает и обживает свой мир. Он не только бессловесная жертва времени, но и творец своего мира, одновременно Господь и Адам, создающий себе богиню «по образу и духу своему». В жестоких противоречиях эпохи он пытается сотворить свое будущее и судьбу, и с радостью обнаруживает, что не одинок в этих попытках:
Мы сами себе сочиняем и песни и судьбы,
И горе тому, кто одернет не вовремя нас…26
Вернемся к Мандельштаму. Трагическое в его лирике – это оборотная сторона всеохватной причастности к бытию. Диапазон состояний героя московского цикла резко контрастен. Мировосприятие Мандельштама в период его возвращения в «буддийскую Москву» глубоко и точно описывает Л.М. Видгоф: «Надо было жить, и хотелось жить, а Москва с ее безалаберностью, пестротой, простором, неистребимой естественностью, волновала некоей домашней и наивной прелестью».27 За исключением приведенных стихов о «трамвайной вишенке» московский цикл Мандельштама наполнен обостренной радостью бытия. В стихи попадают все впечатления внешнего московского мира в их хаотическом нагромождении: китайская прачечная, уличный фотограф, турецкий барабан и струя из бочки для поливки улиц. Герой Мандельштама постоянно стремится ощутить свою связь с миром и мучается отторгнутостью от него. Связь с миром других призрачна, едва уловима, полузапретна, но тем не менее нерасторжима:
Когда подумаешь, чем связан с миром,
То сам себе не веришь – ерунда!
Полночный ключик от чужой квартиры,
Да гривенник серебряный в кармане,
Да целлулоид фильмы воровской.
(«Еще далеко мне до патриарха…»)28
Подобная болезненность вхождения в московский мир (несмотря на изменения, произошедшие с городом) ощутима и в лирике Окуджавы. Ее герой торопится приобщиться к Москве, надышаться ее воздухом, ощутить подлинную радость возвращения, но осознает вместе с тем ее жестокость и неизбежность предстоящего разрыва. Единственное, что в его силах, – умолить Москву об отсрочке:
Время идет, хоть шути — не шути,
Как морская волна вдруг нахлынет и скроет…
Но погоди, это все впереди,
Дай надышаться Москвою.
Мало прошел я дорогой земной.
Что же ты рвешь пополам мое сердце?
Ну не спеши, это будет со мной,
Ведь никуда мне не деться.
Видишь тот дом? Там не гасят огня,
Там друзья меня ждут не больным, не отпетым…
Да не спеши! Как же им без меня?
Надо ведь думать об этом.
Дай мне напиться воды голубой,
Придержи до поры и тоску и усталость…
Ну потерпи, разочтемся с тобой –
Я должником не останусь.29
Важным моментом в лирике и Мандельштама и Окуджавы становится пешее освоение пространства, «впечатывание» себя в него как способ закрепления своего места в московском мире. Лирический герой каждого из рассматриваемых циклов – это московский пешеход, «гуляка с волшебною тростью» (эти слова Мандельштама о Батюшкове являются одновременно и автохарактеристикой), «дежурный по апрелю». Москва воспринимается им как последовательно раскрывающийся в одиноких долгих прогулках мир, и это оставляет в стихах почти физическое ощущение от соприкосновения с московским асфальтом («Люблю разъезды скворчащих трамваев// и астраханскую икру асфальта» — Мандельштам; «И прозрачен асфальт,// как в реке вода» — Окуджава). Сходный – едва ли не до тождественности – мотив стертых башмаков обусловлен буквальным восприятием расхожей метафоры «жизненного пути»: пройти город не менее трудно, чем пройти жизнь:
Еще он помнит башмаков износ,
Моих подметок стертое величье….30
Еще моя походка мне не была смешна,
Еще подметки не поотрывались,
За каждым поворотом, где музыка слышна,
Какие мне удачи открывались.31
С московскими улицами связаны воспоминания о прошлом и неясные надежды на будущее. «Я хожу по улицам московским, — писал О.Э. Мандельштам жене, — и вспоминаю всю нашу милую трудную жизнь».32 Город неисчерпаем и нескончаем – как река, как поток времени («Никогда до конца не пройти тебя»). Рядом с лирическими героями рассматриваемых поэтических циклов в этом потоке плывут другие московские пешеходы, и стук их каблуков рождает музыку «рояля Москвы». Эта метафора Мандельштама – своеобразное предвестие великой метафоры Окуджавы «надежды маленький оркестрик»:
Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето.
С дроботом мелким расходятся улицы в чоботах узких
железных.33
Пешеходы твои – люди не великие,
Каблучками стучат — по делам спешат…34
Сквозь будничный перестук шагов пробивается иная – подлинная, высокая музыка. Здесь звучат мелодии Шуберта («На Москве-реке почтовым пахнет клеем,// Там играют Шуберта в раструбы рупоров»)35 и Баха («Но вышел тихий дирижер, но заиграли Баха,// И все затихло, улеглось и обрело свой вид.»).36 Москвичом оказывается в поэтическом мире Мандельштама и Моцарт, а «Песенка о Моцарте» Окуджавы, внешне не связанная с «московским циклом», скреплена с ним целым рядом потаенных мотивов – надежды, судьбы, «грехов нашей родины вечной»:
К Рембрандту входит в гости Рафаэль,
Он с Моцартом в Москве души не чает…37
Моцарт на старенькой скрипке играет,
Моцарт играет, а скрипка поет.
Моцарт отечества не выбирает —
Просто играет всю жизнь напролет.38
«Малость» московского героя в поэзии Мандельштама и Окуджавы – это внешняя сторона его неощутимого другими и робко осознаваемого им самим величия. Подтверждая его, высокими собеседниками московских прогулок становятся для обоих великие поэты «золотого» – пушкинского – века: Батюшков, Языков, Лермонтов и даже сам Александр Сергеевич. Их – нежных, насмешливых, прощающих — можно встретить на улицах Москвы, и встречи с ними становятся естественным воплощением мечты о поэтическом бессмертии. Описание подобной встречи – это не литературная условность, а подлинное ее переживание: сбивчивый диалог с поэтами прошлого рождает у Мандельштама счастье благодарности и дарит Окуджаве весть о последнем прощении:
Словно гуляка с волшебной тростью,
Батюшков нежный со мною живет.
Он тополями шагает в замостье,
Нюхает розу и Дафну поет.
Ни на минуту не веря в разлуку,
Кажется, я поклонился ему,
В светлой перчатке холодную руку
Я с лихорадочной завистью жму.
Он усмехнулся. Я молвил: спасибо.
И не нашел от смущения слов:
— Ни у кого – этих звуков изгибы…
— И никогда – этот говор валов….39
Насмешливый, тщедушный и неловкий,
Единственный на этот шар земной,
На Усачевке, возле остановки
Вдруг Лермонтов возник передо мной,
И в полночи, рассеянной и зыбкой
(как будто я о том его спросил)
— Мартынов – что… —
Он мне сказал с улыбкой. –
Он невиновен.
Я его простил.40
Общение с высокими собеседниками прошлого не сокращает, а еще более усугубляет разрыв между поэтом и его современниками. Потому и рождается страстное желание: сократить этот разрыв, найти собеседника, взять его за руку, спасти, спастись…
И до чего хочу я разыграться,
Разговориться, выговорить правду,
Послать хандру к туману, к бесу, к ляду,
Взять за руку кого-нибудь: будь ласков,
Сказать ему: нам по пути с тобой.41
То, о чем мечтает в своих московских стихах лета 1931 года Мандельштам, в какой-то мере удается Окуджаве четверть века спустя: набитый московский трамвай в стихах Мандельштама вел к смерти, полночный троллейбус Окуджавы спасает и дарит надежду:
Я с ними не раз уходил от беды,
Я к ним прикасался плечами…
Как много, представьте себе, доброты
В молчанье,
В молчанье.42
1 Аверинцев С.С. Поэзия, сохраняющая тепло человеческого дыхания // Булат Окуджава: его круг, его век. Материалы второй международной научной конференции. 30 ноября – 2 декабря 2001 г. Переделкино. М., 2004. С. 30-32.
2 Померанц Г.С. Серная спичка // Литературное обозрение, 1998. № 3. С. 23.
3 Белая Г.А. Моцарт в неволе // Творчество Булата Окуджавы в контексте культуры ХХ века. Материалы первой международной научной конференции, посвященной 75-летию со дня рождения поэта. 19-21 ноября 1999 г. Переделкино. М., 2001. С. 37-38. Дубшан Л.С О природе вещей // Окуджава Б.Ш. Стихотворения. СПб.: Академический проект, 2001 (Новая библиотека поэта). С. 4.
4 Сухих И.Н. Двадцать книг ХХ века. Эссе. – СПб., 2004, с. 262.
5 Эта проблема ставится и отчасти рассматривается в следующих работах: Бойко С.С. Этот остров музыкальный: тема музыки и образ музыканта в творчестве О. Мандельштама и Б. Окуджавы // Вагант-Москва, 1997, № 4-6. С. 21-27. Розенблюм О.М. К вопросу об эволюции образа поэта в лирике Булата Окуджавы (50-60-е гг.) // Материалы второй международной научной конференции. 30 ноября – 2 декабря 2001 г. Переделкино. М., 2004. С. 114. Сажин В.Н. Примечания // Окуджава Б. Стихотворения. СПб.: Академический проект, 2001 (Новая библиотека поэта). С. 635, 637.
6 Мандельштам О.Э. Собрание сочинений в 4–х томах. Т. 3. Стихотворения. Проза. М., 1994. С. 56.
7 Мандельштам Н.Я. Комментарий к стихам 1930-1937 гг. // Жизнь и творчество О.Э. Мандельштама: Воспоминания. Материалы к биографии. «Новые стихи». Комментарии. Исследования. Воронеж, 1990. С. 214.
8 Окуджава Б. Ш. Заезжий музыкант: Проза. М.: Олимп, 1993. С. 198.
9 Окуджава Б. Ш. Заезжий музыкант: Проза. М.: Олимп, 1993. С. 269-270.
10 Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1963. С. 275-276.
11 Мандельштам О.Э. Собрание сочинений в 4–х томах. Т. 2. Стихотворения. Проза. М., 1993. С481.
12 Окуджава Б. Ш. Заезжий музыкант: Проза. М.: Олимп, 1993. С. 8.
13 Окуджава Б. Ш. Заезжий музыкант: Проза. М.: Олимп, 1993. С. 227.
14 Окуджава Б.Ш. Чаепитие на Арбате: Стихи разных лет. М.: PAN, 1996. С. 253
15 Мандельштам О.Э. Собрание сочинений в 4–х томах. Т. 3. Стихотворения. Проза. М., 1994. С. 52.
16 Мандельштам О.Э. Собрание сочинений в 4–х томах. Т. 3. Стихотворения. Проза. М., 1994. С. 53.
17 Окуджава Б.Ш. Чаепитие на Арбате: Стихи разных лет. М.: PAN, 1996. С. 65. Подробнее о поэтике и документальной достоверности этого поэтического текста: Дубшан Л.С О природе вещей // Окуджава Б.Ш. Стихотворения. СПб.: Академический проект, 2001 (Новая библиотека поэта). С. 3-4.
18 Окуджава Б.Ш. Чаепитие на Арбате: Стихи разных лет. М.: PAN, 1996. С. 90.
19 Жолковский А.К. Избранные статьи о русской поэзии. Инварианты, структуры, стратегии, интертексты. М.: РГГУ, 2005. С. 111.
20 Окуджава Б.Ш. Чаепитие на Арбате: Стихи разных лет. М.: PAN, 1996. С. 511.
21 Бочаров С.Г. Сюжеты русской литературы. М.: Языки русской культуры, 1999. С. 127.
22 Полякова С.В. «Шинель» Гоголя в «Египетской марке» Мандельштама // Слово и судьба. Осип Мандельштам. Исследования и материалы. М.: Наука, 1991, с. 457-459.
23 Мандельштам О.Э. Собрание сочинений в 4–х томах. Т. 3. Стихотворения. Проза. М., 1994. С. 48
24 Окуджава Б.Ш. Чаепитие на Арбате: Стихи разных лет. М.: PAN, 1996. С. 44.
25 Мандельштам О.Э. Собрание сочинений в 4–х томах. Т. 3. Стихотворения. Проза. М., 1994. С. 48.
26 Окуджава Б.Ш. Чаепитие на Арбате: Стихи разных лет. М.: PAN, 1996. С. 314.
27 Видгоф Л.М. Москва Мандельштама. Книга-экскурсия. (Записки Мандельштамовского общества, т. 9). М., 1998, с. 133.
28 Мандельштам О.Э. Собрание сочинений в 4–х томах. Т. 3. Стихотворения. Проза. М., 1994. С. 54.
29 Окуджава Б.Ш. Чаепитие на Арбате: Стихи разных лет. М.: PAN, 1996. С. 15.
30 Мандельштам О.Э. Собрание сочинений в 4–х томах. Т. 3. Стихотворения. Проза. М., 1994. С. 120.
31 Окуджава Б.Ш. Чаепитие на Арбате: Стихи разных лет. М.: PAN, 1996. С. 253.
32 Мандельштам О.Э. Собрание сочинений в 4–х томах. Т. 4, с. 80.
33 Мандельштам О.Э. Собрание сочинений в 4–х томах. Т. 3. Стихотворения. Проза. М., 1994. С. 52.
34 Окуджава Б.Ш. Чаепитие на Арбате: Стихи разных лет. М.: PAN, 1996. С. 82.
35 Мандельштам О.Э. Собрание сочинений в 4–х томах. Т. 3. Стихотворения. Проза. М., 1994. С. 61.
36 Окуджава Б.Ш. Чаепитие на Арбате: Стихи разных лет. М.: PAN, 1996. С. 182.
37 Мандельштам О.Э. Собрание сочинений в 4–х томах. Т. 3. Стихотворения. Проза. М., 1994. С. 53-54.
38 Окуджава Б.Ш. Чаепитие на Арбате: Стихи разных лет. М.: PAN, 1996. С. 255.
39 Мандельштам О.Э. Собрание сочинений в 4–х томах. Т. 3. Стихотворения. Проза. М., 1994. С. 65-66.
40 Окуджава Б.Ш. Чаепитие на Арбате: Стихи разных лет. М.: PAN, 1996. С. 217.
41 Мандельштам О.Э. Собрание сочинений в 4–х томах. Т. 3. Стихотворения. Проза. М., 1994. С. 55.
42 Окуджава Б.Ш. Чаепитие на Арбате: Стихи разных лет. М.: PAN, 1996. С. 37.
Голос надежды: новое о Булате. Вып. 3 / Сост. Е.А. Крылов. – М.: Булат, 2006, С. 325-331.
|
|