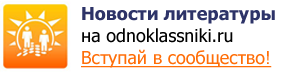Ситуация «явления» в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин»
Уже современники Пушкина осознавали его уникальную способность воспринимать любую из сторон бытия (будь то исторический катаклизм или тончайшее движение человеческой души) во всей полноте, сложности и противоречивости, постигать мир вне категории долженствования, не налагая априорных представлений на действительность, но руководствуясь ее собственными законами. Безграничное доверие к миру, когда в сфере биографии, кажется, нет места напряженному преодолению обстоятельств («Ему как бы всю жизнь “везет”» [5, с. 389]), а в творчестве – чувству «сопротивления материала», – всё это породило миф о пушкинской «легкости».
Очевидно, что узловой исследовательской проблемой остается закономерность сопряжения Пушкиным разноприродного материала в единое гармоническое целое – закономерность, которая реализуется на всех уровнях творчества, начиная с мировоззренческих установок и заканчивая решением стилистических проблем. Важнейшим элементом пушкинской творческой философии оказывается Случай. В блестящей статье В.А. Грехнева этот феномен понимается как доброжелательное вмешательство высших сил, нарушающих незыблемую рационалистическую картину мира, с ее причинно-следственными отношениями: «Пушкинский парадокс объявляет вызов неумолимому господству необходимого, а границы случайного в нем раздвинуты необозримо широко. Мало того, именно в случайном-то и проступает движение высшей воли, как замаскированное кажущейся незыблемостью необходимого. Провидение, по Пушкину, словно бы изредка напоминает о себе тайной игрой Случая. <…> Случай у Пушкина, если можно так выразиться, благоустроителен, иногда он торжествует над всеми ухищрениями самочинной человеческой воли, жаждущей обойтись без всякого вмешательства провидения» [2, с. 43].
Инвариантом Случая в художественном мире Пушкина можно считать ситуацию Явления – тот момент, когда герою «свыше» открывается новое знание о мире, когда преодолевается чувство бытийного тупика. Проблема контакта человека с высшими силами определяет нерв пушкинской лирики 1820-х годов. Тема эта, будучи унаследована от библейской традиции в литературе предшествующих эпох, обретает иные черты в романтизме: сама ситуация сакрального Явления наделяется индивидуальным смыслом и большим разнообразием конкретных воплощений. Отсюда – смысловой диапазон, заданный «парными» стихотворениями середины 1820-х: «Я помню чудное мгновенье…» и «Пророк». Олицетворение высших сил – и «шестикрылый серафим», и Муза, и «гений чистой красоты» («видение красоты, в мире сущей, но как бы Гостьи мира» [3, с. 252]). Чудесная встреча возможна в реальном времени и пространстве, во сне; момент Явления может ничем не мотивироваться, кроме готовности души к приятию новых впечатлений.
Ситуация Явления в сюжетной структуре «Евгения Онегина» должна быть осмыслена в связи с теми важнейшими для Пушкина проблемами, которые занимали его творческое сознание на протяжении всего десятилетия работы над романом. Именно здесь объективированы лирические ситуации Явления, что обусловливает (наряду с другими причинами и факторами, о чем многократно писали) особое место «Евгения Онегина» в творчестве Пушкина. Роман позволял создать некую дистанцию между пушкинской позицией, выраженной в лирике, осуществленной в биографическом контексте, и видением, доступным героям. «Евгений Онегин» дал автору возможность посмотреть на свою жизнь с высшей точки зрения, суммировать опыт в некой «свершенности».
В романе слово явление охватывает события разного уровня: от сакрального до бытового (внезапное появление), причем последнее не растворяет полностью сакральный смысл, не смывается его авторской иронией, а «брезжит» сквозь конкретную ситуацию. Наиболее показателен в этом отношении эпизод явления Онегина Татьяне.
А.В. Кулагин подчеркивает, что пропуск эпизода первой встречи героев в авторском рассказе «сохраняет и усиливает ее <встречи> огромный поэтический потенциал» [4, с. 61]. Добавим, что «нейтральность» ситуации преодолевается и благодаря двойному преломлению события. Для Татьяны это именно Явление, распознавание акта высшей воли: «Ты в сновиденьях мне являлся… / Ты чуть вошел, я вмиг узнала, / Вся обомлела, запылала / И в мыслях молвила: вот он!» Восприятие Татьяны композиционно соотносится с реакцией соседей: «Меж тем Онегина явленье / У Лариных произвело / На всех большое впечатленье / И всех соседей развлекло…» В одном сюжетном узле стягиваются оба толкования явления, и «перевод» прозрения Татьяны на язык житейских отношений (Онегин – жених) не препятствует осуществлению провиденциального смысла встречи (Онегин – идеальный суженый).
Соответственно, онегинская «проповедь» благоразумия при свидании в саду, его же искушающее «кокетство» в эпизоде именин, опровержение наивных представлений Татьяны о «герое романа» благодаря чтению книг, «в которых отразился век / И современный человек / Изображен довольно верно», – ничто не отменяет следствий Явления. Татьяне предоставлен шанс разочароваться, и точкой поворота становится вопрос: «Уж не пародия ли он?» Но вопрос не превращается в ответ, поскольку в эпизоде посещения дома Онегина происходит не только (и не столько) знакомство с кругом чтения героя, сколько встреча с его «душой»: «Везде Онегина душа / Себя невольно выражает…». Недаром общее впечатление Татьяны отливается в торжественную формулу: «И ей открылся мир иной». Бытовое словоупотребление («Анисья тотчас к ней явилась») здесь также просвечивает иными смыслами, едва ли не сказочными, предваряющими открытие «мира иного»: «И дверь пред ними отворилась». Усиление сверхжитейского значения происходит благодаря словесному повтору: «Уж утром рано вновь явилась / Она в оставленную сень»; всего лишь «пришла» – но ради откровения. Расширение горизонтов непредсказуемо и невыводимо буквально из чтения и наблюдений над конкретными пометами на полях чужих книг.
Для Онегина ситуация Явления крайне ограничена, что согласуется с его установкой на рационалистическое миропознание и мирообъяснение. Коллизия отношений с Ленским разрешается явлением, которое сродни преследованию («…Где окровавленная тень / Ему являлась каждый день»). Вхождение Татьяны в его жизнь понимается героем как случайность («Случайно вас когда-то встретя…»). В реальности Онегин Татьяну «не узнает»: сначала это неузнавание – игровой момент («Скажи: которая Татьяна?») затем – искреннее непостижение («Ужель та самая Татьяна…»).
Событие встречи становится явлением лишь во сне – но во сне героини, что в высшей степени необычно (ведь сон принципиально моносубъектен): «Онегин за столом сидит / И в дверь украдкою глядит. / …дверь толкнул Евгений / И взорам адских привидений явилась дева… / Мое! – сказал Евгений грозно». Оказывается важной не встреча как таковая, а ее параллель – в ином пространстве. По мере движения сюжета становится возможной идеальная встреча героев, отнесенная в прошлое: для Татьяны это «сумрак липовых аллей… где он являлся ей», для Онегина, который «чуть не сделался поэтом» – видение сельского дома, где «у окна / сидит она… и всё она!»
Итак, на протяжении всего романа именно образ Татьяны структурирует мотив явления – вплоть до авторского отождествления ее с Музой: «И вот она в саду моем / Явилась барышней уездной». Утверждение С.Г. Бочарова об альтернативном (возможном) сюжете пушкинского романа [1, с.17–42] обретает еще один план: Пушкин развертывает ситуацию как в пространстве жизнеподобном, так и в пространстве духовном. Для духовного пространства характерен алогизм, возможность «скачкообразных» переходов к новому состоянию, откровению, тому высшему видению, которое не согласуется с рациональным опытом.
Ситуация явления как важнейшая в судьбе Автора декларируется еще в I главе: «Прошла любовь, явилась муза, / И прояснился темный ум». Само противопоставление любви и музы может трактоваться не только в аспекте психологии творчества, но и в качестве антитезы двух состояний – земного и сакрального. Сравним эту коллизию с «постоянством» и «единством» сознания Ленского: «Ни музам данные часы, / Ни чужеземные красы, / Ни шум веселий, ни науки / Души не изменили в нем, / Согретой девственным огнем». Двойник Автора в романе (с точки зрения творческих способностей) оказывается в иной ситуации: его творчество протекает совершенно по другим законам, и «невежество сердца» («Он сердцем милый был невежда») по-своему компенсировано.
Ближе к финалу романа мотив явления концентрируется в сфере автора: «Являться муза стала мне…», «И вот она в саду моем / Явилась барышней уездной…», «Промчалось много, много дней / С тех пор, как юная Татьяна / И с ней Онегин в смутном сне / Явилися впервые мне…» Совокупность этих ситуаций свидетельствует о неком особом типе авторского опыта, который осознается в процессе завершения романа.
Литература
1. Бочаров С.Г. О возможном сюжете: «Евгений Онегин» // Бочаров С.Г. Сюжеты русской литературы. М., 1999.
2. Грехнев В.А. Пушкин и философия Случая // Болдинские чтения. Нижний Новгород, 1993.
3. Иванов Вяч. Два маяка // Пушкин в русской философской критике. М., 1990.
4. Кулагин А.А. Первая встреча Онегина и Татьяны // Литературные мелочи прошлого тысячелетия: К 80-летию Г.В. Краснова. Коломна, 2001.
5. Лотман Ю.М. Пушкин. СПб., 1995.
Пушкин и мировая культура: материалы III Междунар. науч. конф., г. Минск. В 2 ч. Ч. 1. – Минск: РИВШ, 2009.