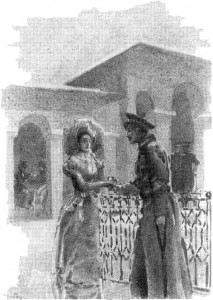Основные тенденции повествовательной структуры первой трети XIX века
Вслед за Ю.В. Манном, назвавшим «взаимосвязь образа автора и структуры повествования центральной проблемой современного литературоведения» [Манн, 431], представляется целесообразным назвать основные тенденции повествовательной манеры в русской литературе 20-30 годов XIX века – времени, когда происходило становление повествования новой русской прозы. В этот период, с одной стороны, начинается отмежевание автора-повествователя от героя, и повышение роли повествователя (рассказчика), стремящегося вступить в непосредственный разговор с предполагаемым читателем, а с другой стороны, происходит постепенный переход от субъективного, личностного повествования к повествованию объективному. Чтобы прояснить эту мысль, обратимся к конкретным примерам.
Формирование и утверждение повествования в русской литературе первой четверти XIX века было обусловлено в первую очередь появлением прозаических художественных текстов А.С. Пушкина, и М.Ю. Лермонтова и Н.В. Гоголя. Их произведения стали своеобразной лабораторией повествовательных приёмов.
В двадцатых годах XIX века А.С. Пушкин, будучи недоволен низким уровнем прозаического литературного языка, ставит перед собой исключительно важную, но сложнейшую задачу – создать «язык мысли» (как он называл прозаический литературный язык и русскую самобытную прозу). В 1827 году он приступает к написанию своего первого прозаического произведения – исторического романа «Арап Петра Великого», где повествование безлично и ведётся от третьего лица. Как известно, этот роман не был завершён. С.Г. Бочаров объясняет это тем, что «проблема повествования в третьем лице стала камнем преткновения в работе над замыслом» произведения, тогда как «позиция автора и структура повествования для большой эпической формы, исторического романа ещё не сложились» [Бочаров, 117]. Но попытка создать повествование в третьем лице через несколько лет будет Пушкиным повторена в «Пиковой даме» и «Дубровском».
В 1829 году появляется пушкинский «Роман в письмах», где повествование организует личное начало, а весь текст создаётся (и это заявлено в самом названии) в уже эпистолярном жанре, восходящем ещё к «Новой Элоизе» Руссо: «повествование идёт от «я» переписывающихся между собой персонажей – Лизы, Саши, Владимира и его друга. А в словах Владимира прорывается «голос» автора». Незадолго до Болдинской осени Пушкин пишет незавершённые фрагменты «В начале 1812 года» («модуляции будущего “Выстрела”») где доминируют местоимения «мы» и «он», прорывается и личностное «я». В период первой Болдинской осени появляются «Повести покойного Ивана Петровича Белкина», открывающиеся, как известно, предисловием «От издателя», написанным от первого лица. В тексте мы не слышим непосредственно голоса того рассказчика, чьё имя вынесено в заглавие цикла повестей, а именно покойного И.П. Белкина, ставшего своеобразным героем-невидимкой. Этот образ нарочито не объективирован, в то же время, в цикле явно различаются голоса рассказчиков и имплицитно присутствуют, с одной стороны, голос Ивана Петровича Белкина, а с другой — голос автора-повествователя, который вездесущ, всезнающ, лишён индивидуального начала. Возникает образ повествователя «вообще», за которым кроется не Белкин, не девица К.И.Т. , не титулярный советник А.Г.Н., не подполковник И.Л.П. , не приказчик Б.В., и не автор – творец (А.С. Пушкин). Повествование разворачивается на глазах читателя и возникает словно из самой русской жизни. Мы не будем здесь подробно освещать сложнейшую систему повествовательных потоков, присутствующую в «Повестях Белкина», поскольку, во-первых, это не входит в нашу задачу, а во-вторых, данный аспект поэтики А.С. Пушкина был уже основательно изучен многими исследователями, среди которых С.Г. Бочаров, Н.К. Гей, В.Е. Хализев, Т.Т. Давыдова, В.И. Тюпа и другие. Отметим, однако, что проза Пушкина движется от абсолютной объективации и «отстранённости» (как это было в «Арапе Петра Великого) к субъективному повествованию (в «Романе в письмах»), а затем к такому сложнейшему «протеистическому» повествовательному типу, при котором персонаж «превращается» в рассказчика, рассказчик становится повествователем, происходит непрерывная смена объективного и субъективного, но, тем не менее, у читателя возникает общее впечатление однородности художественного текста при его явной «разноречивости».
В 1832 году Пушкин начинает писать повесть (или «историко-бытовой роман») «Дубровский», в котором вновь совершена попытка создания объективного, скупого, безлично – авторского повествования, исполненного «мыслей и мыслей». Неверным будет утверждать, что в повести нет авторского слова, оно есть, присутствуют даже обращения автора к читателю, вроде: «Теперь попросим у читателя позволения объяснить последние происшествия повести нашей предыдущими обстоятельствами, кои не успели мы ещё рассказать» или «Мы скоро увидим, что он имел достаточную причину их опасаться». Но эти и другие авторские обращения не выявляют конкретно авторского голоса, не создают, например, того «образа автора», который есть в «Евгении Онегине», а «полностью остаются в рамках <…> способа воссоздания обобщённо-отвлечённой авторской композиционно-повествовательной структуры» [Гей, 198]. Повесть «Дубровский» осталась не завершённой, однако стала высокой планкой для исторических романов Загоскина, Лажечникова и др. В 1933 году, в период второй Болдинской осени, появляется повесть «Пиковая дама», где события развиваются в естественной последовательности и в повествовании которой преобладает больше линейности по сравнению с «Повестями Белкина». Рассказывание в «Пиковой даме» кажется объективированным до предела, отрешённым, безлично отточенным, события словно разворачиваются сами собой, без какого либо повествователя. Однако и здесь повествование «двоится», внутри себя словно раскалывается, на что указывает уже первая фраза художественного текста: «Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова». Не известно «мы» играли, или «они» играли, очевидна только сама личностная неопределённость, ставшая результатом сложнейшей проблемы выбора, возникшей перед автором в самом начале работы над этой повестью, — создавать личное, авторское повествование (от «я»), или безличное, «объективное». «Пиковая дама» начинается как свободный, «живой» рассказ, рисующий образ рассказчика, личность которого словно скрыта в складках текста. Об ориентации на непринуждённое «рассказывание» свидетельствует уже первое слово повести: «Однажды…». В «Пиковой даме» благодаря сохранению живой разговорной интонации и частому использованию несобственно- прямой речи поддерживается иллюзия, что рассказчик где-то рядом, он видит ситуацию изнутри, говорит о ней как о чём-то чрезвычайно важном и близком ему самому, даёт слово участникам события. Следствием последнего становится то, что границы высказывания повествователя и героя (персонажа) постепенно размываются. Повествование становится подобно морским волнам с их приливами и отливами: объектное повествование незаметно «перетекает» в субъектное, а потом снова возвращается в исходное положение. Читатель слышит голос повествователя, передающий психологическое состояние героя, но в то же время ощущает, что это одновременно мог быть и голос героя, рассказывающий о том, что он чувствует или чувствовал. Представляется, что именно эта особенность пушкинского повествования стала впоследствии основой повествования романистики И.А. Гончарова. Пушкин, однако, «от этой спаянности повествовательных регистров, от объективного типа повествования в «Пиковой даме» <…> перейдёт вновь к субъектно- повествовательному типу прозы» [Гей, 193], показателем чего станет «Капитанская дочка». В последнем законченном прозаическом произведении А.С. Пушкина, в «Капитанской дочке», создаётся особая форма «повествования- соповествования», при которой голос героя, выступающего в роли повествователя, и голос автора-повествователя органично сосуществуют.
Итак, А.С. Пушкин в своих первых прозаических произведениях («Роман в письмах», в некоторой степени «Повести Белкина») обращается к образу рассказчика, впоследствии пытается создать безличное повествование («Дубровский», «Пиковая дама»), а затем в его художественных текстах возникает сложнейший сплав голоса автора-повествователя и голоса героя. ( «Повести Белкина», «Капитанская дочка»).
Обратимся теперь к прозе М.Ю. Лермонтова и попытаемся выявить в его творчестве основные повествовательные тенденции. В первом прозаическом произведении Лермонтова, в незавершённом юношеском романе «Вадим», границы, отделяющие сознание главного героя от сознания повествователя, условны, благодаря чему излияния души героя, отражённые в его монологах, показываются не извне, а изнутри. Патетические речи Вадима отмечены репликами повествователя, продолжающими и дополняющими эти речи. Повествователь в «Вадиме», давая характеристику душевного состояния своего персонажа, раскрывает и свои чувства. Он, как правило, разделяя позицию героя, отказывается от роли беспристрастного созерцателя, включается в ход действия, прерывая его, если это необходимо, прямым выражением своих чувств: вопросами, восклицаниями, развёрнутыми комментариями событий. Например, в главе XIV читаем: «Горе, горе ему! Она пришла сюда с верою в душе, а возвратилась с отчаяньем; (всё это время дьячок читал козлиным голосом послание апостола Павла, и кругом, ничего не заметив, толпа зевала в немом бездействии…что такое две страсти в целом море равнодушия?)». Общественное переводится в план личных, интимных переживаний, через объективное просвечивает субъективное, отсюда нередкое обращение к несобственно –прямой речи. Даже в обрисовке портретов героев резко подчёркнуто личное начало, например, «описание одежд нищих становится скрытым изображением их душевного мира» [Михайлова, 122]. Эта особенность в целом присуща русской романтической прозе. Весь роман Лермонтова «Вадим» строится как воспоминание о происшествии, случившемся «за два месяца до бунта пугачёвского». Причём авторское воспоминание о реальном историческом событии наслаивается на воспоминание главного героя о последствиях конфликта его отца (и отца Ольги) с соседом Палицыным, бывшим товарищем по охоте. Этот давний конфликт и станет причиной гнева Вадима, его желания отомстить недругу отца. Но, несмотря на грамматическое прошедшее время, которое в большинстве случаев использует повествователь, нередко возникает иллюзия «мнимого настоящего» времени, благодаря фразам, типа: «Кто идёт ей навстречу? Это Вадим». Такое переключение времени с прошедшего в настоящее позволяет повествователю поместить читателя в центр описываемой сцены. В романе Лермонтова «Вадим» (и других его прозаических произведениях), имеет неустойчивый характер: дистанция между прошедшим и настоящим то подчёркивается, то сокращается, благодаря чему ретроспективное время переходит во время синхронное. Лермонтов постепенно начинает приходить к объективному изображению действительности. Однако в психологическом романе «Княгиня Лиговская» он словно не решается ещё полностью обратиться к бесстрастному объективному изложению событий, и повествование перебивается вторжением эмоционально насыщенных авторских высказываний. Однако в повествовании постепенно происходит отмежевание от воплощавших романтическую метафизику стихий открыто субъективного лиризма, благодаря чему возрастает роль психологического раскрытия характера и психологических мотивировок рассказываемых событий.
В «Княгине Лиговской» нередко подчёркивается, что все описываемые события – только «история», выдумка автора. Между читателем и действительностью находится повествователь-посредник, намекающий, что всё изображённое здесь –плод авторского воображения. В повествовании большинства прозаических произведений Лермонтова главный герой — не автор, а персонаж, не «Я», а «ОН», третье лицо. Однако это не мешает автору обращаться к изображению процесса углублённого самоанализа главных героев художественных произведений. Максимальное воплощение это получит в романе Лермонтова «Герой нашего времени».
Интерес к сложной и противоречивой внутренней жизни человека возник в русской литературе ещё в тридцатые годы XIX века, однако ни у одного писателя он не проявился настолько ярко, как у Лермонтова. Такие авторы, как Ф. Корф (повесть «Как люди богатеют»), В. Филимонов (роман «Непостижимая»), М.П. Погодин «Адель», А. Тепляков «Человек не совсем обыкновенный», А. Андросов «Случай, который может повториться. Русская современная быль», Н. Станкевич «Несколько мгновений из жизни графа Z***» А. А. Бестужев- Марлинский (« Фрегат «Надежда»»), Н. Полевой («Живописец», «Аббадонна»), Н. Павлов («Три повести») только подступали к изображению борьбы, происходящей в душе личности. Лермонтов, миновав период ученичества («Вадим», «Княгиня Лиговская»), пришёл к созданию законченных образов, поражающих своей психологической сложностью.
В романе «Герой нашего времени» и обстановка, и ситуации, и события, и персонажи оказываются привлечены для наиболее точного и полного раскрытия образа Печорина. В этом художественном тексте, как доказал исследователь творчества Лермонтова Б.Т. Удодов, имеет место система двойничества, призванная и для наиболее полного освещения противоречивости сознания Печорина, и для раскрытия авторского отношения к главному герою и окружающим его персонажам. Психологическими «двойниками» Печорина стали Грушницкий («двойник-антипод»), доктор Вернер, Вулич, Казбич и Янко. Принцип двойничества очень характерен для произведений с полифонической основой. Сложнейшее явление полифонии можно свести к трём основным моментам: во-первых, это наличие в произведении нескольких независимых точек зрения, голосов, которые звучат равноправно; во-вторых, данные «голоса» должны принадлежать непосредственно участникам повествуемого события (то есть, не должно быть абстрактной идеологической позиции, голоса, который никому не принадлежит), в-третьих, различие этих точек зрения и «голосов» должно проявляться в том, как тот или иной герой – носитель идеи оценивает окружающую его действительность.
Понятие «полифонизм» в своё время было почти «узурпировано» М.М. Бахтиным исключительно в пользу Ф.М. Достоевского. Сейчас очевидно, что полифонизм, хотя и по-разному, но проявляется в произведениях и других русских писателей 19 века. Об элементах полифонии в романе «Герой нашего времени» писал и Г.М. Фриндлендер, и В.Г. Одиноков, И Б.Т. Удодов. В этом произведении, действительно, можно найти и столкновение хора голосов, различных сознаний, и открытость романа будущему как незавершённому, но предполагающемуся диалогу.
Рефлексия, напряжённость психологического анализа и самоанализа героев романов Лермонтова являются не только знаком конкретного времени («пост декабристской эпохи»), но и необходимой формой самопознания личности, стремящейся уяснить смысл бытия и собственное место в мире. Пристальным вниманием к законам перехода идеи- страсти и идеи чувства в поступок, конкретное действие Лермонтов подготовил почву для появления прозы Гончарова и Достоевского.
Необходимо отметить, что Лермонтов первоначально создаёт произведения, в которых повествование ведётся эксплицитно, т.е., явно присутствует либо образ эмоционального рассказчика, либо образ страстного повествователя, не скрывающего своего отношения к происходящему ( «Вадим»). Впоследствии у Лермонтова в «Княгине Лиговской» образ повествователя то появляется, то надолго исчезает, «сменяясь полным растворением повествователя в объективном саморазвитии сюжетов и характеров» [Маркович, 486]. Для незавершённого произведения Лермонтова «Штосс» такая «растворённость» голоса повествователя в художественном тексте особенно показательна. Эффект «растворённости» голоса повествователя приведёт к тому, что в русской литературе первой половины XIX века постепенно начнёт создаваться совершенно особый повествовательный тон, вызывающий наибольшее доверие у читателей, позволяя им поверить в реальность тех событий, о которых говорит автор. Происходит процесс демократизации и героя, и голоса повествователя.
Итак, Лермонтов в своей прозе идёт от авторского (эксплицитного) повествования к имплицитному, где появляется эффект «растворённости» голоса повествователя в художественном тексте; во-вторых, и в творчестве Лермонтова, проявляются элементы полифонизма; в-третьих, писатель обращается к открытию психологического феномена, названного впоследствии Л. Н. Толстым «текучестью» человеческого характера.
Обращаясь к особенностям повествовательной системы в прозе Гоголя, необходимо отметить факт, на который указал В.М. Маркович: «..у Гоголя образ рассказчика и его речевая «партия» проводятся через всё повествование» [Маркович, 486]. В ранних и поздних гоголевских художественных текстах возникают различные образы рассказчика или повествователя, однако неизменно «присутствует некое стилистическое ядро, <…> своеобразный конгломерат стилистических тенденций, по которому узнают выборки из сочинений Гоголя, чью бы речь они ни воспроизводили – рассказчика или его героев» [Виноградов, 191] Сложность обзора гоголевских произведений в повествовательном аспекте заключается в том, что его приёмы повествования не выстраиваются в одну «линию», не существует последовательного перехода от одного к другому, а имеет место их переплетение. Поэтому можно говорить лишь о центральной повествовательной тенденции, характерной для прозы Гоголя.
Ранними прозаическими произведениями Гоголя были, как известно, повести «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831-1832), объединённые в общий цикл образом «издателя» и рассказчика Рудого Панька. Однако в роли рассказчиков в повестях выступают и другие герои, среди которых Фома Григорьевич и панич из Полтавы. Приём ведения «вторичных нарраторов» использовался до Гоголя Пушкиным в «Повестях Белкина» (1830), где роль условных рассказчиков играют девица К.И.Т., титулярный советник А.Г.Н., приказчик Б.В., подполковник И.Л.П.. Но если у Пушкина в «Повестях Белкина» нет никакой ориентации на воспроизведение специфических отличий устного повествования, то Гоголь свой сказ начинает сразу как совершенно особую форму повествования, в которой присутствует установка, во-первых, на имитацию монолога иного, чуждого автору-творцу «я», а во-вторых, на воспроизведение специфических особенностей устной речи, появляется сказовая манера повествования.
Назовём основные признаки сказа. Во-первых, сказом будет текст рассказчика (а не самого персонажа, который может выступать только в роли вторичного рассказчика). Во-вторых, рассказчик должен быть несколько примитивен, интеллектуально отдалён от автора-творца. В-третьих, сказовое повествование предполагает двуголосость и двуфункциональность, то есть повествовательное слово должно быть одновременно и изображающим, и изображаемым. В-четвёртых, сказ должен напоминать спонтанную устную речь (которая, однако, может имитировать и речь письменную). В-пятых, сказовая речевая стихия может включать просторечия, речевые ошибки, не всегда уместные употребления книжного стиля. В-шестых, «сказу свойственна установка говорящего на слушателя и его реакции».[Шмид, 192]
Сказовая манера будет свойственна не только раннему, но и позднему Гоголю, однако очевидно, что повествование в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» не тождественно повествованию в повести «Шинель», которая считается образцом сказа. В «Вечерах…» читателям известно имя рассказчика, ясна идеологическая и языковая позиция конкретного говорящего, а также очевидно, что сам говорящий обращается к конкретным читателям, имеющим вполне определённые черты – черты бесчувственного и ироничного человека, способного посмеяться над стариком-рассказчиком. Иного характера рассказчик в повести «Шинель». Безусловно, в повести сохраняется установка на устную разговорную речь, спонтанность, интеллектуальная отдалённость рассказчика от автора, но в «Шинели» создаётся образ рассказчика не наивного, неумелого, а безличного, точнее, выступающего в разных ролях и масках, смена которых непосредственно зависит от содержания художественного текста. Кроме того, сохраняя черты некоторого внешнего простодушия, рассказчик в «Шинели» далёк от «непосредственности» повествователей, принадлежащих к патриархальному мирку.
Обратимся теперь к циклу Гоголя «Миргород». Повествование этом гоголевском цикле тесно зависит от сюжета, а сквозной темой сюжета оказывается противопоставление «дерзких мечтаний» «низменной буколической жизни».
У Гоголя эта антитеза присутствовала ещё в поэме «Ганц Кюхельгартен»: юноша, принадлежащий миру буколики, покоряется дерзкой мечте и покидает привычную жизнь. Его возвращение домой знаменует отказ от «дерзких мечтаний». Однако в «Ганце Кюхельгартене» мировоззрение повествователя и героя тождественно, что было связано не только с нормами романтизма, (где такое слияние было традицией), но и с законами литературной вторичности: герой осмысляет жизнь как совокупность определённых законов, (извлечённых героем из литературы), а повествователь в свою очередь считает такое осмысление истинным. В «Миргороде» Гоголя не будет этого свойственного для эстетики романтизма слияния мировоззрения автора и героя (хотя некоторые пересечения в их мировидении, безусловно, будут иметь место). В гоголевском цикле эта антитеза продолжает быть для повествователя основой взгляда на мир, между тем как автор-творец показывает, посредством каких житейских условий была рождена эта антитеза.
В первой «миргородской» повести, «Старосветские помещики», антитеза «дерзкие мечтания» — «буколистическая жизнь» связана в первую очередь с образом рассказчика, предстающего в художественном тексте как человек, движимый подобными мечтаниями, однако невольно подчиняющийся обыденным обстоятельствам. Стоит отметить, что фраза, присутствующая в самом начале повести «Старосветские помещики» и принадлежащая повествователю удивительно соприродна мировоззрению одного из центральных героев романистики И.А. Гончарова — Илье Ильичу Обломову: «Я отсюда вижу низенький домик”; “все это для меня имеет неизъяснимую прелесть, может быть, оттого, что я уже не вижу их и что нам мило все то, с чем мы в разлуке”; “более всего мне нравились самые владетели этих скромных уголков”; “их лица мне представляются и теперь иногда в шуме и толпе среди модных фраков”. Подобное мог бы произнести и Илья Обломов, живя безвыездно несколько лет в Петербурге и вспоминая родную Обломовку.
Исследователь творчества Н.В. Гоголя Г.А. Гуковский утверждал, что рассказчик в «Старосветских помещиках» принадлежит к «миру зла», «аду современности», но всей душой тянется к утраченному миру идиллии. [Гуковский, 90] Однако сама повесть свидетельствует об ином положении гоголевского рассказчика: он показан как человек, который некогда принадлежал идиллическому миру, затем утратил его, оказавшись в силу различных причин в мире карьеризма, бездушных и регламентированных отношений, но всё-таки не принял его законов, ценностей и норм, наоборот, готов отвергать мир регламентации. Рассказчик не принадлежит и не принадлежал миру зла, «ада», поскольку зло изначально не было близко его природе. Поэтому возможна духовная близость (хотя и не тождественность) рассказчика и супругов Товстогубовых в «Старосветских помещиках».
Антитетичная пара «дерзкие мечтания» — «буоклистическая жизнь» присутствует и в повести «Тарас Бульба», где и спокойная «буколистическая» жизнь, и возвышенные дерзания образуют две стороны народной жизни и находятся в состоянии гармонии для тех людей, которые способны легко, как сам Тарас Бульба, перейти от мирной жизни к жизни, где есть место подвигу, и в повести «Вий», где картины «буколистической» и в данном случае пошлой деревенской жизни контрастируют с дерзновенным желанием Хомы Брута познать неизвестное- взглянуть на Вия. Антитеза «буколистической жизни» и «дерзновенных мечтаний», имеющая место и в последнем произведении «Миргорода», присутствует, как и в «Старосветских помещиках», в сознании повествователя, однако в «Повести о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» повествование более безотрадно, пессимистично. Но этот пессимизм повествователя всё-таки не ведёт к восприятию всего цикла как пессимистичного и унылого. Благодаря присутствию указанной антитезы читателю открываются перспективы «дерзких мечтаний»: они способны направить в плодотворное русло деятельность целого народа или помочь человеку освободиться от пошлости жизни.
И в цикле «Миргород» и впоследствии в поэме «Мёртвые души» Гоголь стремится создать образ автора и личный (т.е. не абстрактный) и в то же время обобщённый, выступить от имени «народа как единства, коллективной личности», возникает переход от «я» повествователя к «я» народа. Особенно показательна эта тенденция в повести «Тарас Бульба» и в так называемых авторских отступлениях поэмы. Однако в поэме «Мертвые души» спорадически происходит не только слияние голоса повествователя с голосом народа, но и сближение голоса повествователя и голоса главного героя.
Обычно новизна повествовательных принципов проявляется при показе главного героя. Таковым в поэме «Мёртвые души» можно называть Павла Ивановича Чичикова.
В начале поэмы перед нами своеобразная «фигура фикции», «эпиталама безличию», «явление круглого общего места, спрятанного в бричку» (А. Белый) — предельно условный и абстрактный герой, на что указывает сам его «апофатический» портрет «не красавец, но и не дурной наружности, ни слишком толст, ни слишком тонок..». Затем постепенно в герое начинают проявляться черты антихриста. Эта идея впервые была предложена Д.С. Мережковским в работе «Гоголь и чёрт» (1906) и впоследствии развита многими исследователями, в частности, М. Вайскопфом в его монографии «Сюжет Гоголя», где Чичикова интерпретируется как «протеический герой, надёлённый «тёмным происхождением» и связанный с границей и чужаками (служба на таможне контакты с <…>контрабандистами) », что явно «отдаёт маскирующимся дьяволом-оборотнем». [Вайскопф, 525]
Согласно гоголевскому замыслу, о котором он в 1944 году писал Языкову, во втором томе поэмы должно было произойти перерождение главного героя. В свете этого все современные исследователи творчества Гоголя сходятся во мнении о существовании имплицитной связи между Чичиковым и апостолом Павлом [Гольденберг, 34], который некогда был гонителем, а затем, после духовного потрясения, стал ревностным сподвижником Христа. Очевидно, подобная перемена должна была произойти и с Чичиковым. На реальность такого духовного преображения указывает в первом томе не только само имя героя, принадлежность его к русской нации (по мысли Гоголя, возможность «исправления» русского человек заложена уже в самом характере и складе народного ума), подробная биография Чичикова, но и знаменитая сцена чтения Чичиковым списка мёртвых душ, которую сразу же отметила критика и обвинила Гоголя в том, что «подлецу» Чичикову были отданы сокровенные авторские мысли о русском народе. Сам факт того, что Чичиков задумался о судьбе богатыря Степана Пробки, Петре Неуважай-Корыто, сапожнике Максиме Телятникове, Григории Доезжай – не — Доедешь и других русских крестьян, не содержит ничего невероятного.
Но содержание размышлений и манера повествования явно не соответствовала духовному складу Чичикова. Современники Гоголя посоветовали ему избавиться от этого несоответствия. Например, Белинский в статье «Объяснение на объяснение» указывал на то, что гоголь «неосновательно заставляет Чичикова расфантазироваться о быте простого русского народа при рассматривании реестра скупленных им мёртвых душ <…> Здесь поэт явно отдал ему свои собственные благороднейшие и чистейшие слёзы, незримые и неведомые миру, свой глубокий, исполненный грустной любовию юмор, и заставил его высказать то, что должен был выговорить от своего лица» [Белинский, 337] и писатель попытался внести исправления в первый том, однако впоследствии отказался от таких исправлений. Следовательно, такое сближение голоса повествователя и голоса героя было неслучайно. Само называние Чичиковым имён русских крестьян во время составления купчей становится своеобразным средством «оживления» их; «…герой дарует им тем самым новое бытие, явленное в истории их похождений, заведомо гипотетических и потому не скованных локализованной, однозначно статической данностью реальной биографии. Эта ворожба, предваряемая магическим танцем Чичикова, вырастает из простой графики номинаций, отождествляемых с “душами”» [Вайскопф, 530]. Размышления Чичикова (и одновременно повествователя) патетичны, эмоциональны и в то же время пронизаны едва заметной иронией. Эта ирония в повествовании усиливается и тогда, когда Чичиков размышляет гостях, пришедших на бал к губернатору (глава восьмая) и эти размышления также оказываются близки размышлениям автора-повествователя: «Вона! Пошла писать губерния» <…> Ну попробуй, например, рассказать, один блеск из: влажный, бархатный, сахарный. Бог их знает, какого нет ещё!».
Стилистически приведённый фрагмент представляет собой «автореминисценцию» из «Невского проспекта»: «Вы здесь встретите бакенбарды единственные, пропущенные с необыкновенным и изумительным искусством под галстук, бакенбарды бархатные, атласные, черные <…> Кажется, как будто целое море мотыльков поднялось вдруг со стеблей и волнуется блестящею тучею над черными жуками мужеского пола. <…>А какие встретите вы дамские рукава на Невском проспекте! Ах, какая прелесть! Они несколько похожи на два воздухоплавательные шара, так что дама вдруг бы поднялась на воздух, если бы не поддерживал ее мужчина…».
Сравнение мужчин с чёрными жуками в «Невском проспекте» перекликается с знаменитым сравнением в гостей дома губернатора с мухами на рафинаде (первая глава «Мёртвых душ»), муха становится символом суеты, бесполезного протекания времени, а упоминание о воздушности дамских рукавов перекликается с важной частью наряда дам губернского города NN — «лёгким головным убором», который «держался только на одних ушах и, казалось, говорил: “Эй, улечу…”». Итак, мы видим, что речевая манера повествователя (причём, не только в поэме «Мёртвые души», но и «Невском проспекте») оказывается неожиданно близка речевой манере Чичикова. Исследователями выдвигались различные объяснения такого неожиданного сближения Чичикова с автором. Это ситуативное сближение голоса повествователя с голосом героя можно объяснить следующими обстоятельствами. Во-первых, тем, что именно Чичиков занимает в поэме совершенно особое место ( о чём уже было упомянуто выше в связи с идеей возможности духовного перерождения героя). Во-вторых, становление современной русской прозы, произошедшее в первой половине XIX века, привело к расширению изобразительных возможностей слова, получившее выражение, в частности, в том, что повествователю приходилось теперь учитывать внутреннюю логику поведения героя как личности, а вероятность поступков и суждений героя находилось в зависимости от степени личностного контакта повествователя с персонажем.
Опыт пушкинских, лермонтовских и гоголевских прозаических текстов оказался исключительно значимым и для дальнейшего развития прозы нового типа, и для организации повествования в художественных текстах таких русских писателей, как Гончаров, Тургенев, Достоевский, Толстой.
Литература и примечания
Белинский В.Г. Собрание сочинений. В 3-х томах 2. М., 1948.
Бочаров С.Г. Поэтика Пушкина. М., 1974. С. 117
Вайскопф М. Сюжет Гоголя: Морфология. Идеология. Контекст. М., 2002. С. 525.
Виноградов В.В. Поэтика русской литературы. Избранные труды. М., 1976. С. 191.
Гей Н.К. Проза Пушкина. Поэтика повествования. М., 1989. С. 198.
Гоголь Н.В. Собрание сочинений. В 9-ти томах. М., 1994.
Гольденберг А.Х. Гончаров С.А. Легендарно-мифологическая традиция в «Мёртвых душах» // Русская литература и культура нового времени. СПб., 1994. С. 34.
Гуковский Г.А. Реализм Гоголя. М.-Л., 1959. С. 90.
Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений. В 6-ти томах. Л., 1954- 1957.
Манн Ю.В. Автор и повествование // Категории поэтики в смене литературных эпох. Историческая поэтика: Литературные эпохи и типы литературного сознания. М., 1994. С. 431.
Маркович В.М. Лермонтов и русская проза // Лермонтовская энциклопедия. М., 1981. С. 485- 492.
Михайлова Е.Н. Проза Лермонтова М., 1957. С. 122.
Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. В 16 томах. М., 1937.
Шмид В. Нарратология. М., 2003. С. 192.
Воробьёва, М.С. К проблеме становления эпического произведения в русской литературе первой трети XIX века. / М.С. Воробьёва // Филологические исследования. Сборник филологического факультета ННГУ. – Нижний Новгород, 2004. – С. 5-12.
|
|