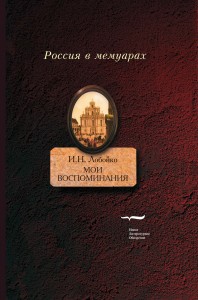И.Н.Лобойко «Мои воспоминания» (Россия в мемуарах)
Появление поэтов и писателей в Новгороде-Северском, как и во всей стране, было величайшею редкостию. Поэт Николев проезжал через этот город, посетил директора <гимназии>, который пригласил для него меня и Вернета побеседовать. Николев был среднего роста, дороден, приятного лица, хотя уже немолод, разговор его и приемы <были полны> спокойствия. Он обратился в Вернету и, поговорив с ним четверть часа по-французски, хвалил его за превосходное произношение. Вернет отдал ему ту же справедливость. Потом обратился ко мне: «Кого вы почитаете большим поэтом, Ломоносова или Державина?» — «Я за Ломоносовым», — отвечал <я> ему. <нрзб> что мнение сходно было с его. «Продекламируйте одну из од Ломоносова». Я начал оду; едва останавливался, там он мне помогал, пока ее кончил.
<Преподавание в Харькове>
Но сколь я счастлив здесь ни был, я считал город Харьков для дальнейшего моего усовершенствования необходимым. В Харьковской гимназии место учителя русской словесности было уже занято. Профессор Осиповский решил употребить меня для преподавания немецкого языка в высших классах. И так я остался в Харькове учителем немецкого языка и словесности и при сих благоприятных для меня обстоятельствах. Директором гимназии был тогда Андрей Иванович Шредер. Он воспитывался в немецких университетах, знал не только немецкую, но и французскую словесность во всей ее обширности и совершенстве. Он был страстный обожатель великих писателей и поэтов. Профессор Якоб выписал из Галле для гимназической библиотеки превосходное собрание немецких книг. Ими наполнен был огромный шкаф, который поставили в моем классе и отдали мне ключ. В низших классах немецкий язык преподавал Ольденборгер.
Все мои профессоры были еще по-прежнему в университете. Товарищи мои заняли места в новооткрытых гимназиях и училищах. Латинский язык водворялся, и чрез пять лет после открытия университета не было ни одного студента, который бы не знал по-латыни.
<Профессора немецкой словесности в Харьковском университете>
Немецкой словесности учился я в университете у профессоров Умлауфа и Якоба, более известного своею политическою экономиею. Умлауф, профессор латинской литературы, преподавал в университете для нас и немецкую. Он преподавал без дальних сборов, но лекции его были превосходны. Избрав отличное произведение и обыкновенно обширное, например Виланда «Oberon», Лессинга трагедию «Emilia Galotti» или трагедию Шиллера «Don Karlos», он по лучшим и вернейшим соображениям высказывал мнение свое о трагедии вообще, о характере писателя и его произведениях и о достоинстве разбираемых сочинений. При чтении на каждой странице рассыпал он множество эстетических и критических замечаний и объяснений и выставлял все то, что окружало поэта в минуты его восторга. Мы все хорошо знали по-немецки, а потому в преподавании не имел он нужды употреблять другой язык <иначе> как немецкий же; но он всегда умел заметить в писателе те места, которые были для нас темны и требовали объяснения. Этот такт всегда удивлял нас.
По смерти Умлауфа Якоб, профессор политической экономии, принял на себя читать немецкую литературу. Он читал ее по Рамбаха собранию стихотворений (Rambасh «Odeum») и спустил ее гораздо уже пониже. Здесь заключались мелкие стихотворения и отрывки. Он читал их попросту, не окружая никакою атмосферою. Тогда-то я увидел, что не каждый профессор может учить отечественной словесности. Дело, кажется, не трудное, да надобно знать, как за него взяться, а это достается только опытом и навыком.
Вышедши из этой школы, я хотел поставить немецкий язык и словесность в гимназии на такую степень, на какой она до меня еще не была. Я ввел в классе переводы с русского на немецкий, читал грамматику и историю немецкого языка по Аделунгу, историю немецкой литературы по Вахлеру, а немецкие стихотворения по хрестоматии, изданной профессором.
<Василий Назарьевич Каразин>
В то время познакомился я с Василием Назарьевичем Каразиным. Я давно уже желал этой чести и смотрел на него как на основателя университета, как на великого человека, гонимого судьбою. Он употреблял меня для перевода на немецкий язык своих проектов [и это дало мне повод с ним сблизиться;] часто присылал за мной во время праздников и вакаций из своей деревни, и дом его был для меня сущею академиею. Тут можно было видеть все ученые затеи. Превосходная его русская библиотека, доставшаяся ему от Голикова, сочинителя «Деяний Петра Великого», была единственная по богатству и редкости книг во всей стране. Но бесчисленные проекты и ученые замыслы этого неутомимого беспокойного духа не принесли отечеству никакой пользы, хотя все они имели такую вероятность [он так красноречиво и сильно умел доказывать их возможность], что не только сам обманывался, но и всю публику вводил в заблуждение. Напоследок он потерял на этих опытах свое имение и упал в общественном мнении. Вся жизнь его состоит теперь из обломков технологии, химии, физики, агрономии, политической экономии и статистики. Если бы все это соединил он в одно целое и употребил эти редкие познания на обозрение и описание губерний Южного края, тогда бы он воздвиг себе в потомстве, подобно Палласу, несокрушимый памятник; но он во всем искал славы, пользы и удивления и [хотел их достигнуть вдруг, а не терпением и постоянством,] если не находил их скоро, очарование его исчезало. Он равнодушно оставлял свой предмет и воспламенялся другим.
<Редактирование «Харьковского еженедельника»>
Книгопродавец Лангнер приехал поселиться из Москвы в Харьков и поправить свои дела. Но тут был уже Цимзен, которого торговля иностранными книгами также разоряла. Лангнер вздумал издавать русский журнал, но не находил издателя. Я был занят. Если бы не это, я бы со всею горячностию бросился на эту приманку авторского честолюбия; но я был занят до потери сил в гимназии, в пансионах и домах, где я преподавал немецкий язык, русский и географию. Я принял на себя это издание только на время. Мы назвали его «Еженедельник». Публика его поддерживала. Если бы я был независимее и богаче, это издание непременно имело <бы> успех, но настоящего издателя не было, а Лангнер бросает: то по тому, то по другому видел, что все его усилия были напрасны.
<Поездка в Крым>
Крым находится в расстоянии 400 верст от Харькова, но найти случай сделать туда поездку нетрудно. Один из моих товарищей отправлялся туда учителем. Он учился в Киеве, был в Риме и Неаполе у посланника италианского учителем, и вместо того чтобы наслаждаться счастием созерцать эту классическую страну, он беспрестанно переводил стихами по-русски Расинову «Федру» и ничем не воспользовался. Я предпринял с поэтом путешествие и любовался на каждом шагу красотами Тавриды. Гражданский губернатор Бороздин ездил перед тем почти по всему полуострову и жалел, что я ему прежде на глаза не попался. Я никогда не смогу забыть этой важной для меня утраты. Василий Назарьевич Каразин рекомендовал меня предводителю Тарнову. Через него имел я честь видеть знаменитого генерал-губернатора Новороссийского края дюка де Ришелье. Он был здесь попросту, в старом мундире, в <нрзб> полковых панталонах, с круглой шляпой. Тарнов рекомендовал гостям свои крымские вина, которые они отведывали и сравнивали с французскими. Казалось, ничто их не тревожило. Вдруг полуостров поколебался от вести о нашествии Наполеона на Россию. В собрании дворянства, которого половину составляли татарские мурзы, прочитано было воззвание ИмператораАлександра I к российскому народу. Я был свидетелем этого волнения. Таврическая губерния, как малолюдная, освобождалась от рекрутского набора; требовали от ней денежного пожертвования. «Нет, — сказали татары как один, — уж денег-то мы не дадим. Бог знает, дойдут ли они в руки к Государю, а мы все готовы стать под ружье, начиная от шестнадцатилетнего юноши до шестидесятилетнего старика, и идти в поход, куда прикажут».
Александр Федорович Воейков
Москва была окружена врагами. Жители искали пристанища кто где мог.АлександрФедорович Воейков, не предвидя спасения, пустился куда глаза глядят. Он отправился в карете на собственных лошадях. Сперва прибыл он в Рязань, оттуда добрался в Воронеж, оттуда в Харьков. Москва была занята. Он получил известие, что дом его, библиотека и типография разграблены. Чтоб рассеять свое горе, он хотел сделать путешествие по Крыму, откуда я недавно приехал. Он меня дожидался. Мне приятно было видеть, что я для него человек нужный. Я написал ему много рекомендательных писем и старался воспользоваться кратким его пребыванием в Харькове для моего наставления. Я показал ему свои сочинения и переводы. Он тотчас заметил, что они наполнены германизмами. Это меня испугало, но сделало осторожнее. Я приобрел совершенное его благорасположение, которое потом поддерживал я перепискою. Если я не успел возбудить в нем большого о себе мнения насчет моих эстетических способностей, зато я доволен был самым выгодным мнением его о моей учености. Оставляя Дерптский университет, он рекомендовал меня на свое место профессором и вписал мое имя в число кандидатов.