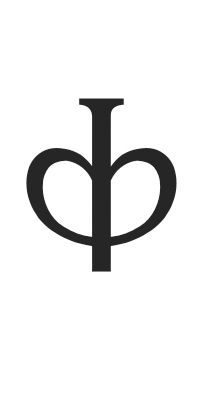Лутц Бассман, Антуан Володин «С монахами-солдатами»
 1. Экзорцизм на морском берегу
1. Экзорцизм на морском берегу
До моря оказалось рукой подать. Обогнув примостившийся у автовокзала полицейский участок, я пересек две или три торговые улочки и проследовал дальше на юг. Метров через пятьсот появилось море, темно-зеленое под светло-серым небом, цвета морской волны. Оно было спокойно, как озеро, и, за вычетом двух готовых исчезнуть за горизонтом танкеров, пустынно, ни кораблей, ни чаек. Я остановился на несколько минут, чтобы вдохнуть его в себя, чтобы его просмаковать: после долгих лет в камере, где восхититься пейзажами можно было только в своих сновидениях, мне недоставало широты морских просторов. Потом зашагал вдоль берега. Город в этом направлении, на восток, особо не стремился, и я быстро оставил позади последние жилые кварталы. Обрамлявший пляж бульвар сменила пустынная дорога. Узкая, она то отдалялась от воды, то, чуть ли не оглаживаемая волнами, вплотную к ней прижималась. Жилье попадалось все реже. В основном постройки высились с той стороны дороги, что смотрела вглубь суши, но кое-где сумели втиснуться и между мостовой и морской стихией, то лепясь над обрывом, то, наоборот, смиряясь подобно рыбацким хижинам с омовением пеной. И те, и другие задумывались отнюдь не для богатых курортников. Они были практичны и вполне заурядны. Железо кровель тронула ржавчина, обшитые вагонкой стены, разъедаемые гнилью и солью, почернели у основания. Большинство, казалось, долгие годы пустовало. Время от времени на глаза попадался сад, где сохло белье, зачастую по соседству виднелась собачья конура с одним-двумя псами; те, присматриваясь к чужаку, поднимали голову и вновь погружались в сон, совершенно безучастные, не потрудившись даже залаять. Люди, казалось, отсутствовали. Дорога была проезжая, местами асфальтированная, причем вполне качественно, но никто по ней не ездил, не иначе речь шла всего-навсего о полузаброшенном проселке, который никуда толком не вел. Дом, в котором мне поручили провести экзорцизм, оказался последним, далее простирались километры однообразной, местами чуть неровной почвы, в основном желтых, мрачных тонов, покрытой песчаным колосняком, безымянными травами, чахлыми, без единого цветка, кустиками.
До своей цели я добрался к середине дня, после доброго часа ходьбы. Под дождь я не попал, но небо хмурилось все сильней и сильней. Сменило свой цвет справа от меня и море. Я долго еще любовался им, прежде чем сосредоточиться на задании, которое должен был выполнить. Меня заверили, что никаких препятствий я не встречу и, едва вступив в скрытую от посторонних взглядов густой живой изгородью из бирючины усадьбу, смогу приступить к работе — никто не вмешается и не потребует у меня отчета. Посреди кустов виднелась металлическая калитка. Я толкнул ее и очутился перед двухэтажным деревянным особняком, наружные доски которого были во вполне приличном состоянии, пусть даже покрывавший их когда-то медового цвета лак с годами потемнел. Это оказался загородный дом без особых примет, но не такой запущенный и куда приметнее, чем соседние хибары. Первый этаж был слегка приподнят над землей, что позволило возвести что-то вроде портика с терраской в пару-другую квадратных метров. Справа к изгороди притулился крохотный сарайчик с навесом, под которым укрылось старое автомобильное сиденье. Налево виднелась рама с подвешенными к ней качелями. Сзади расстилалось море. За окрестной территорией давным-давно никто не следил, и ее заполонили дикие растения тех неряшливых, уродливых разновидностей, что встречаются по косогорам, у дюн, на просоленной морскими брызгами почве. Камнеломка, ползучий стальник, приморская свекла и капуста с толстыми листьями, молочай, катран, если верить учебникам ботаники. Здесь же, среди этой надоедливой растительности, держался и дом, не представляющий никакого интереса и как бы лишенный истории. Картина показалась бы совсем банальной, не будь одной несообразной детали: тибетской гирлянды. Я уже понял, что не ошибся, меня снабдили точными указаниями: последнее строение по прибрежной дороге, живая изгородь из бирючины, два этажа, три или четыре ступеньки перед входной дверью, крохотная терраса у главного фасада. Гирлянды не упоминались, но они лишний раз подтверждали, что я не ошибся местом. Между поддерживающими навес столбиками, над и поперек порога кто-то прицепил вереницу тибетских флажков с оттиснутыми иконками, приносящими удачу животными, молитвами.
Здесь кого-то захлестнул испуг.
Испуг, пришедший из бездны страх, безмерный ужас.
Здесь кто-то призвал на помощь суеверие, чтобы восстановить оспоренный порядок мироздания, чтобы бороться с чудовищно чуждыми силами. Чтобы хоть как-то с ними бороться. Два десятка треугольников и полосок, желтых, синих, красных, разделенных на три гирлянды, мешали пройти через дверь и даже просто войти на террасу; они символически преграждали путь злым духам. Я насчитал их двадцать один; число, в общем-то способное помочь. Никто не мог ни выйти, ни войти, не перешагнув через них или не пройдя под ними. Ветра не было, и слегка поблекшая ткань обвисла. Я принялся развязывать узлы, потом заново натянул мудреные бечевки, прицепив их к балюстраде террасы и к перилам. Проход был свободен. Тибетские гирлянды не имели больше сверхъестественной силы, но оставались там, украшали фасад.
У нас, монахов и солдат, отсутствует культура магии, будь то, как здесь, явно затронутая шаманизмом или какая-либо еще. Мы не придаем значения ритуалам, в которых задействованы артефакты, лоскуты ткани, причудливый или нелепый язык жестов. Мы вверяем наши судьбы надежным, кроющимся в нас самих грозным силам, которые конкретные наблюдения позволили выявить и взять под контроль. При этом ничто не мешает нам проявлять снисходительность к чужим верованиям. Что до меня, мне всегда нравилась эстетика коней ветра, этих лунгта, которых, чего доброго, по сей день развешивают вокруг своих храмов и святилищ тибетцы, если Тибет и его обитатели выжили, если они не канули в небытие, как множество народов и стран, как большинство из нас. Я не чувствую особого волнения при виде этих лоскутов, но мне нравится их присутствие. Их беззлобная пестрота навевает на меня детские воспоминания. Напоминает о путешествиях.
Я отступил на пять-шесть шагов и даже выдержал паузу, словно сосредоточивался, чтобы оценить свою работу декоратора. Потом обошел вокруг дома.
Дикие растения разрослись и свели на нет разницу между утрамбованными дорожками и квадратами газона, придававшими некогда имению ухоженный вид. Месиво гибких и хрустких, членистых и перепутанных стеблей доходило до колена, приходилось расталкивать или топтать неуступчивые мясистые листья, зачастую не видя, куда ставишь ногу. Продвижение по этим джунглям не вызывало того подъема, какой бывает, когда проходишь, например, нетронутой степью или лугом. Не возникало никакого ощущения эпического контакта с природой. Шумно шагаешь по мерзкому саду — и только.
Я миновал сарай. От автомобильного сиденья разило плесенью. Я не стал задерживаться и прошел дальше, к морю.
Задний фасад дома прорезали довольно широкие окна. Со второго этажа наверняка открывался великолепный вид на морской простор, но на первом не было ни застекленного проема, чтобы этим видом насладиться, ни двери, выходящей на господствующую над пляжем площадку. Сам дом — и в этом он напоминал прочие постройки, расположившиеся вдоль дороги, — был вырисован без малейшей оглядки на архитектурный изыск. Легко было, например, вообразить террасу, на которой было бы так приятно принимать пищу или читать, обратясь лицом к морю, но ничего подобного не имелось и в помине. Садовая мебель на горизонтальной площадке отсутствовала, а если когда-то кому-то и пришло в голову расставить там стол и стулья, то все это давным-давно растащили. Чтобы добраться до пляжа, требовалось воспользоваться бетонной лестницей в пятнадцать ступенек весьма приблизительной геометрии. На черном галечном пляже и не думала колыхаться вода. Волны разбивались без пафоса, почти не пенясь. Очень спокойное место. Прочерченная чуть выше по берегу черная линия из остатков водорослей и отбросов свидетельствовала, что в прилив вода почти не поднималась.
Я спустился по лестнице и на какое-то мгновение замер на камнях, лицом в ничто. Воздух пах солью, йодом, но запахи были не слишком назойливы. Отражая набухшее дождем небо, море казалось теперь совершенно серым. Ни один корабль не проступал более в этой безбрежности. Я всмотрелся в игру пены среди гальки, вслушался в гипнотический ропот моря. Ни малейших следов человеческой деятельности. Предотвращавшая осыпание площадки подпорная стенка тянулась далее на запад и восток, довольно глубоко проникая в воду, так что пляж обрамляла этакая искусственная бухточка, в которой сходило на нет и без того слабое шевеление волн.
Позади меня, невидимый с пляжа, ждал дом.
Ждет, подумал я. Пора идти.
Я поднялся по лестнице и продолжил обход с того места, где его прервал. На этот раз прошел вдоль западной стены и, обогнув качели, вновь очутился перед фасадом с тибетской гирляндой.
И снова оказался перед главным входом.
Я решил войти.
Я говорю «я», хотя так до сих пор и не представился. Скажем, меня зовут Шван. Имена или клички удобны, чтобы налепить на людей ярлыки, но им грош цена. За ними практически ничего нет. Я мог бы выбрать и другое, более выразительное имя, но, даже если за ним ничего не стоит, здесь оно мне вполне подойдет. Итак, скажем, меня зовут Шван. Физически по моему поводу сообщить почти что нечего, во мне нет ничего примечательного: как и вы, я заключен в кожу, сверху снабжен лицом. Иными словами, я чуть ли не повсюду способен остаться незамеченным. Лицо у меня, полагаю, одиночки, уже в морщинах, уже состарившееся, уже не год и не два близкое к смерти, что здесь вполне обычно для того, кому за сорок. Мне время от времени ставят на вид, что я уже не так худ, как когда меня вербовали. То и дело слышишь: Шван обрастает жирком. Не иначе, кончит свои дни толстяком. Вот единственная особенность, способная в крайнем случае выделить меня из группы монахов, заключенных или солдат; впрочем, этот изъян, эта тенденция прощаться с худобой свойственна и другим. Но короче. В тот день я был одет в белое, в церемониальной шляпе с верхом из почти прозрачной сетки. В правой руке держал зонтик, по левому боку шлепалась сумка из шелка-сырца. Чтобы представить меня, этого вполне достаточно: заурядный тип во всем белом, с сумкой на ремне и не лишенный некоторой корпулентности.
Меня не подталкивало действовать никакое ощущение неотложности. Мне поручили очистить дом, но у меня был карт-бланш относительно метода и возможных отсрочек. Я мог еще долго пребывать в бездействии, рассматривать украшенную гирляндами террасу, эту надежную дверь, этот жалкий в своей пышности сад и ждать невесть чего. Мог переносить каждую четверть часа момент, когда действию суждено будет начаться. Но что толку?
Что толку, подумал я.
Чем раньше, тем лучше, подумал я. Прямо сейчас.
Я преодолел четыре ступеньки крыльца и взялся за позолоченную ручку. Оказалось, что дверь не заперта на ключ; она распахнулась сразу же и без скрипа.
Поскольку ставни были не закрыты, в доме царило приятное освещение. За занавесками, по ту сторону стекол, виднелись две безбрежные серые поверхности: аспидное небо и чуть менее темное море. В первое мгновение это поражало: светозарная гризайль, порождавшая впечатление, будто ведет в бесконечность. Остальное, собственно говоря интерьер, было куда менее поэтичным. Дверь вела в гостиную. На полу — паркет светлого дерева. Я огляделся по сторонам. Меблировка сводилась к самому существенному: стол на коврике из кокосовых волокон, четыре стула, подушки, пара сундуков. Убранство крашенных белым стен было напрочь лишено изящества: охапка высохших цветов, две репродукции с картин импрессионистов, дешевая керамика, стенные часы, остановившиеся в десять часов восемнадцать минут. Складывалось впечатление, что ты проник на сдаваемую летом понедельно дачу. В этом стиле был выдержан весь первый этаж: кухня, туалет, единственная спальня. Комната выглядела по-спартански: низенький комод, два стула, тюфяк, брошенный наголо на пружинный матрас. Прежде чем покинуть помещение, обитатели произвели уборку. Все было покрыто легкой пылью, но хранило порядок; все было на месте. В ящиках комода отыскалась пара чистых простыней и прочее белье.
После беглого осмотра я заглянул в подвал: забетонированное пустое пространство без перегородок, где царили новенький котел и колонка-водогрей. Вдоль стен наискосок проходили канализационные трубы, к металлической этажерке рядом с котлом прислонились метла и лопата для снега. На этажерке выстроились всевозможные чистящие средства, упаковка с шестью рулонами туалетной бумаги. Чуть дальше, под раковиной, небольшая канистра. И все. Свет проникал через подвальные окна, расположенные в торцах дома. Подняв голову, можно было увидеть темно-бурую почву и буйную массу растений. Стекла покрывали пятна грязи.
Я покинул это подземелье, закрыл за собой дверь и застыл на какое-то время в гостиной, у подножия лестницы, которая вела на второй этаж. У первой ступеньки распростался желтоватый соломенный мат. Я смаковал спокойствие дома, его безыскусность, безмолвие. Я не двигался, разве что переводил взгляд от окна к окну, чтобы изучить пейзаж изнутри. Слева от себя я видел передний двор с его заданным кустами бирючины периметром, справа — протянувшуюся между домом и волнами площадку. Над бирючиной и морской капустой, катраном, распростерлись великолепные серые тона облаков и моря.
Прошло две, от силы три минуты.
И тут мое внимание привлекло нечто странное, что я вдруг заметил на лестнице, прямо перед собой. Ступеньки покрывала глазурь толщиной чуть ли не в сантиметр. Этакий непомерный слой безудержно расплескался и по стенам, по потолку, по всему вокруг.
Не нравится мне это, подумал я. Эта непонятная глазурь, этот след. След не нашего мира.
Все выглядело так, будто поверхности каким-то извращенным образом оказались отъяты у взгляда неким прозрачным сдвигом; они были отделены от реальности, оставались под этим слоем одновременно наличными и недоступными.
Я начал подниматься по лестнице. Был начеку. Прежде чем добраться до лестничной площадки, замедлил шаг. За вычетом одной аномалии, этой диковинной глазури, все было в полном порядке. Я двинулся дальше.
Под моим весом захрустели дощечки на лестничной площадке. Я очутился в коридоре, куда выходило несколько дверей. Я толкал их одну за другой. Заходил на шаг-другой в каждую комнату, замирал, быстро ее оглядывал и возвращался в коридор. Ванная, первая комната, подсобное помещение с гладильной доской и корзиной для белья, в которую были кое-как побросаны смятые тряпки. На бортике ванны обнаружился флакон с шампунем в компании обмылка, в остальном повсюду царила пустота. И здесь тоже ставни были не закрыты. На этаже доставало света.
Глазурь застеклила все от пола до потолка, включая нечастые здесь предметы, белье, например, или занавески в ванной и флакон с шампунем. Не оставляло впечатление, что по всей обстановке равномерно и тщательно размазали какую-то слюну или там слизь, после чего она затвердела.
Не знаю, что все это значит, подумал я. Какие здесь были задействованы силы, какие твари. Одно очевидно: то, что принадлежало людям, больше им не принадлежит. Именно чтобы их этого лишить, и оказался вылизан весь этаж.
Открылись все двери, кроме одной, в среднюю, самую большую комнату, целых два окна которой выходили на море. Она не была заперта на ключ, но войти мне не удалось. Я покрутил ручку и начал было поворачивать дверь на петлях, но, пройдя с десяток сантиметров, приоткрытая дверь застопорилась. Сопротивление было абсолютным: чувствовалось, что на полу покоится некая очень плотная преграда — массивная и тяжелая. Вставить в щель руку не получалось, о том, чтобы просунуть голову и оглядеться, не приходилось и мечтать.
Не к добру все это, подумал я.
Весьма вероятно, что лежащее с той стороны имеет отношение к этой глазури, к этой отчужденности от всего человеческого. Может быть, именно оно и заглазировало столь зловеще весь этаж, подумал я.
Я ничего не видел, разве что узкую вертикальную полоску обоев, самых заурядных обоев в незабудках и, на полу, уголок покрывала из темного войлока. В покрывале не было ничего особенного, но его не тронула корка, не обездвижил навсегда прозрачный слой.
— Впусти меня, — сказал я приглушенно, словно говорил сам с собой. — Ты лежишь, ты завернулась в большой войлочный квадрат, там, под войлоком, покоится твое тело. Неважно, на что ты сегодня похожа. Твое тело не имеет значения. Пошевели им, пошевели телом, в котором теперь обретаешься. Ты заблудилась, тебе нечего здесь делать, я помогу тебе отыскать дорогу, чтобы ты смогла вернуться к своим, к тебе подобным, к тем, кто волнуется, обнаружив, что ты не вернулась.
Я выждал несколько секунд.
— Впусти меня, — продолжал я, — я дам тебе имя и помогу покинуть это место.
Ответа не было.
— Представь, что ты вспоминаешь обо мне, — сказал я. — Представь, что мой голос тебе знаком. Сделай усилие.
Я несколько раз приналег на дверь бедром, плечом. С другой стороны дерево уперлось в ворсистую кожу или войлок, кончик которого был мне виден, продвинулось еще на миллиметр-другой и более не двигалось. Какою бы она ни была, преграда, которую я чувствовал, ощущал ее инерцию, возвышалась в высоту на полметра. Весомая, непоколебимая масса.
— Несчастна ты там или нет — не имеет значения, — сказал я безразличным тоном. — Этот дом, в котором ты ныне обосновалась, не может тебя больше принимать. Ты спишь. Я разбужу тебя и отведу к тем снам, в которых твое место. Место, которое ты сейчас занимаешь, для тебя не предназначалось. Ты попала сюда, заблудившись. Нужно уйти. Я покажу тебе дорогу, которой ты должна следовать, чтобы уйти.
Несколько минут я ждал какой-нибудь реакции. Ничего не происходило. Из комнаты доносился неуловимый запах туалетной воды. Я запретил себе копаться в воспоминаниях, чтобы отыскать ее название, марку. Я знал одну женщину, которая душилась подобным ароматом. Было недопустимо связывать ее с тем, что покоилось за дверью. Я удержал себя от мыслей об этой женщине. Она была совершенно ни при чем. Не время и не место думать о ней. Но свежий лесной запах был тут как тут.
— Я помогу тебе, — сказал я. — У тебя достаточно сил, ничто враждебное тебя не ослабило, ты можешь шевелиться, можешь уйти. Ты завернулась в покрывало из черного войлока, но на деле тебя ничто не сковывает. Под покрывалом твое тело. Ты внутри этого тела и ты свободна. Тебе достаточно пробудиться в этом теле и пошевелиться. Ты сможешь уйти, если постараешься.
Я перестал давить на дверь.
Отступил на шаг.
Снаружи почти в то же мгновение пошел дождь. Хлынул ливень. Дождь забарабанил по крыше, дом уже не был безмолвен, слышалась канонада, картечь сотен, тысяч капель и пронзительное, мелодичное журчание, пришепетывание.