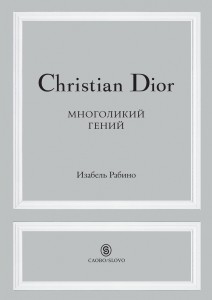Изабель Рабино «Кристиан Диор. Многоликий гений»
Человек, который хотел сменить кожу
Вы уже встречали его. Конечно же, встречали. Видели лицо на фотографии, слышали имя, постоянно звучащее в телерепортажах с модных дефиле. Вы восхищались красотой его платьев, всякий раз отмечая, что в самом этом человеке необычное уживается с вполне заурядным. Его образ все больше тускнеет и расплывается во мгле прошлого — ведь он умер больше полувека назад. Вы следили за успехами его модного дома, который пережил своего основателя и демонстрирует прямо-таки бесстыдное здоровье. Возможно, у вас даже есть немного Диора в личной собственности — в виде ярлычка на шарфе с шелковистой текстурой или аромата в стеклянном флаконе. Вскоре, когда вы отправитесь в далекое путешествие, и самолет совершит промежуточную посадку в каком-нибудь незнакомом аэропорту, ваш взгляд почти автоматически найдет среди множества торговых марок знаменитую белую надпись на сером фоне. Неудивительно, Диор так давно представляет Францию и ее ценности по всему миру, что наверняка уже успел занять небольшое пространство и в вашей голове.
Когда мы слышим «Диор», то, конечно, первым делом думаем о моде и всяких модных пустячках. Но важнее другое — в этом человеке воплотился самый дух европейского XX столетия, трагического и неистового. Вы каким-то таинственным образом знаете, что он оставил след в жизни нескольких поколений ваших предков. Франция в 1950–1960-е годы — это де Голль, Бардо и Диор. Еще и сейчас представление о красоте, профессиональном мастерстве и роскоши связано у нас с этим блистательным именем. Это Диор сопровождал ваших родителей в тех приключениях, которые отложились потом в подкорке вашего мозга, а значит, в первооснове вашей личности. Слава великого кутюрье, перешагнувшая из одного столетия в другое и дошедшая до вас, поражает своей долговечностью, такое впечатление, что она не стареет, что ей не будет конца. И, как мы увидим, жизненные перипетии Кристиана Диора тем или иным образом все еще отражаются в вашей собственной жизни.
Итак, вы знаете о Диоре всё — а по сути не знаете ничего. Зато он немало знает о вас: ведь он частенько наблюдал за тем, как вы одеваетесь и раздеваетесь. А значит, стал одним из ваших близких. Да что там — он живет у вас, в ваших сумочках, ваших лаках для ногтей, ваших чулках или галстуках. И, наверное, не страшно, что Диора-человека уже почти не разглядеть за его творениями, за созданной им империей. Он растворился в собственной легенде, слился с линией, которая очерчивает ваш силуэт. Диор — это часть современной истории, истории ваших привычек и ваших желаний.
Однако Диор — ларец с двойным дном. Открыв его, вы обнаружите, что его содержимое не сводится к одной только моде. Там еще есть зеркало, отражающее образы коллективной памяти. Приключение под названием «Диор», в сущности, не что иное, как роман, и речь в нем идет о вас: именно поэтому вам никогда не приходило в голову его прочесть. Многоликий Диор — это вы сами, и в то же время это он. Кристиан Диор не без лукавства озаглавил свои воспоминания «Кристиан Диор и я»1, давая понять, что написал двойную биографию[1]. Платья великого кутюрье с изнаночной стороны выполнены не менее тщательно, чем с лицевой, при желании их можно носить, вывернув наизнанку. Таким же «двусторонним» был и сам Диор. За неполные десять лет руководства модным домом он создал поэму французской моды, в ней он напряженно вслушивается в невидимые элементы своих платьев, подкладку, подшивку, изнанку, выкройку. Он уводит вас на другую сторону моды, обычно скрытую от глаз.
Чтобы составить представление об этой личности, нужно было прочесть очень много, и, в частности, такие тексты, где автор почти никогда не говорит о Диоре напрямую, но где постоянно ощущается его присутствие, например, интимные дневники Жана Кокто, композитора Анри Соге или художника Жана Гюго. Я собирала по крохам свидетельства тех, кто с ним работал, выискивая их записи в архивах дома Dior, где передо мной гостеприимно распахнули двери. Я побывала в домах, где он жил, в Гранвиле и Монтору, посетила его последнее жилище в Мийи-ла-Форе, изучила манеру этих домов кокетливо заигрывать с пейзажем, в который они так талантливо сумели вписаться. Чтобы понять Диора, надо усвоить одну очень важную вещь: его дома задуманы как двойники его самого.
Следуя за Диором по узкой тропинке сквозь пред диоровскую, а затем и диоровскую эпоху, я сохраняла полную независимость от нынешней финансово-промышленной империи, носящей его имя, и никому не была обязана давать отчет. Отправной точкой для меня стала интуитивная уверенность в том, что сорок лет, которые он успел прожить до своего звездного часа (и, не забудем, прожить в тесном общении с выдающимися художниками того времени), превратили его в человека, заслуживающего чего-то большего, чем добротная традиционная биография.
Читая и перечитывая его мемуары, особенно отдельные места из них, достигающие редкого драматизма, я пришла к выводу, что этот человек, чья история так меня взволновала, существовал в разных ипостасях, а значит, абсолютно современен. Я задалась вопросом, о чем он мечтал, — если ты хочешь его понять, это самый важный вопрос. Потом я сопоставила сведения из разных источников, восполнила некоторые пробелы, кое-где сделала крутой разворот, а в иных случаях даже сорвала покров видимости, чтобы найти истину. Я попыталась угадать в Диоре скрытые побуждения: так на полотне художника под напластованиями краски нередко таится набросок совсем другой картины, которую он когда-то хотел написать, а потом передумал. И действительно, в прославленном кутюрье, как прежде в талантливом, но еще не выбравшем свой путь юноше, созерцательное начало стремилось подчинить себе начало деятельное, тень упорно отвоевывала пространство у света, рядом с одиноким прохожим вдруг вырастал двойник.
В его удивительной судьбе все неоднозначно, всё не то, чем кажется. За внушительной фигурой великого кутюрье просматривается какое-то другое существо, печальное, вечно неудовлетворенное жизнью. Мы чувствуем, что многоликий Диор всегда настороже, всегда строго контролирует самого себя: у него необычайно сильное сверх-я, как сказал бы психоаналитик. Я слышала такую историю. Кристиан Диор часто просил своего водителя сделать небольшой круг, потом еще один, еще и еще, перед тем, как подъехать к дверям модного дома: он тянул время, потому что боялся предстать перед своими служащими — а вдруг случайно окажется, что он, по его собственному мнению, не удовлетворяет их взыскательным запросам? У Диора множество обличий еще и в обыденном, профессиональном смысле: вы думали, он только кутюрье, но, как выясняется, он еще и садовник, архитектор, композитор, дипломат, галерист… В одном человеке уживается целая толпа. Он постоянно меняется сам, изменяет окружающий мир, изобретает нечто невиданное. Бесконечное мелькание костюмов, лиц, масок. И какова же заветная мечта Кристиана Диор? Сменить кожу. Но об этом мечтают и другие. Диор захочет и сумеет им помочь: так он придет к своему призванию.
Благодаря моим собеседникам из архивов дома Dior, а также всем остальным, кто помогал мне в этом расследовании, многоликий Диор стал доступнее, он не только благосклонно отвечал на мои вопросы о моде и давал прогнозы на будущее, но также позволял расспрашивать и о сокровенном. Он охотно поведал о своей склонности к кроткой меланхолии, об удивительной работоспособности, о присущем ему сочетании дилетантизма и профессионального подхода к делу, он улыбался мне своей полусерьезной, полунасмешливой улыбкой, — и я начала переворачивать страницы правдивой истории его жизни. Как я уже сказала, в случае Диора жанр биографии в строгом смысле этого слова неприменим. Творец новых направлений в моде слишком своеволен, он не терпит попыток втиснуть его жизнь в логическую схему. Им придумано такое множество причудливых фантазий, сопровождающих силуэты, чьи секретные коды известны только ему одному, что он больше не верит — и мы вместе с ним — в прямые линии. Его портрет можно запечатлеть только на полотне с совсем особой структурой.
Грезы художника нашли воплощение в реальной жизни, в виде платьев, костюмов, шляп. Кристиан Диор всегда стремился прямо к цели, не отвлекаясь на второстепенное, вот почему он спас самого себя и вдобавок выступил с одной из самых хитроумных идей, какие только были в мире моды: каждый, будь то женщина, мужчина или шаловливый эльф, имеет право на вторую, параллельную жизнь, в которой сможет укрыться, чтобы получить шанс полнее выразить себя. Сменить кожу, чтобы изменить жизнь — разве не этому, в сущности, учит нас Диор?
Жан Кокто часто упоминает об «этом переменчивом гении, столь характерном для нашей эпохи, о его магическом имени[2], в котором соединились Бог и золото»2. Остроумное определение Кокто всем понравилось, его часто повторяли, и со временем оно превратилась в сжатую формулу: «золото + Божья благодать = Диор». Кокто одним из первых уловил математически точную красоту этой фамилии, понял, какое счастливое предзнаменование скрыто в ней. Поэт не ошибся. И дело не только в том, что у него был тонкий слух и обостренное восприятие. Почему бренд оказался таким долговечным, почему фамилия Диор обладает такой притягательной силой? Потому что в этих четырех буквах заключена непомерная жажда власти, ненасытное желание подчинить себе весь мир.
Чтобы без конца перевоплощаться, чтобы жить вечно, он создал существ неземной, нетленной красоты, которые вот уже шесть десятилетий позируют при свете юпитеров, прославляя его имя, сезон за сезоном, со все такой же чуть ироничной элегантностью. Мы имеем дело с фениксом, снова и снова возрождающимся из пепла. Каждый сезон Диор оживает в коллекциях своих преемников; так Пикассо продолжает жить в нарисованных глазах своей музы Доры Маар, — когда кто-то принимается ее рассматривать, ревнивец сразу просыпается.
Еще в 1947 году, когда недавно возникший модный дом начинает готовить почву для построения империи, робкий и сдержанный Кристиан заявляет: он не хочет, чтобы кто-то писал за него его биографию. В 1957 году, уже после его смерти, были опубликованы мемуары, «Краткий словарь моды»3, сборник диалогов, в которых он объясняет, что это за профессия — кутюрье («Я — кутюрье»4), кулинарная книга5 и десятки интервью, взятых у него журналистами из разных стран мира. В тех редких случаях, когда Кристиан хочет высказаться, он выбирает одну из своих жизней со всем полагающимся набором аксессуаров, соответствующими лицами и личинами (дальше мы покажем, как он это делает).
Посмотрим на Кристиана Диора в том же 1947 году, вскоре после триумфального успеха его дебютной коллекции: вот он заговорщически улыбается нам одними глазами — ну разве еще краешком губ, — держа в руке линейку и давая понять, что старается уменьшить длину юбки до разумных пределов. Сцена кажется обыденной, но только на первый взгляд, ведь это происходит в трудное послевоенное время, когда еще действовали нормы отпуска продуктов и расхода тканей. Для кутюрье, не скрывающего намерения покорить весь мир, Диор ведет себя с неслыханной смелостью. Вдобавок, что тоже ново и очень смело, на этой знаменитой фотографии он предстает перед нами с рабочим инструментом, готовый моделировать наши вкусы и наши тела, — совсем как художники эпохи Возрождения, которые на автопортретах охотно изображали себя с палитрой и кистью, для вящего удовольствия зрителей.
После внезапной кончины Кристиана Диора в 1957 году его место поочередно занимали другие кутюрье. Каждый из них, поднявшись на капитанский мостик, получал в свое распоряжение надежную, исполнительную команду: персонал привык безоговорочно поддерживать политику того, кто становился главным стилистом фирмы. Но ни один, даже Ив Сен-Лоран, не завоевал такого авторитета, каким пользовался ее основатель. Здесь до сих пор присутствует и властвует человек, который при жизни так старался не привлекать к себе внимания.
Когда представляешь себе Кристиана Диора в наши дни, в роли хозяина международной империи моды, постоянно путешествующего и преодолевающего по нескольку часовых поясов, это вызывает улыбку. Многие пытались написать историю жизни Диора, но всякий раз у них получался некий набор разрозненных фрагментов, которые упорно не желали складываться в единое целое, словно части выкройки, где рукава невозможно приделать к проймам: как ни меняй фасон, все равно не поймешь, каким было платье на эскизе модельера.
Ибо жизнь Кристиана Диора — это неоконченный роман. Заключительные слова, которые я хочу привести в начале моей книги, были сказаны им самим в книге-автопортрете «Кристиан Диор и я». Эта вещь местами заставляет вспомнить о великом писателе Владимире Набокове и его опубликованном в 1941 году романе «Подлинная жизнь Себастьяна Найта», где автор рассказывает историю своего умершего брата, своего «альтер эго». Вот что говорит Диор:
«Как мне кажется, пришло время для очередного, и всякий раз небезопасного, выяснения отношений с моим братом, сиамским близнецом, которого породил мой успех, и который повсюду забегает вперед с тех пор, как я стал Кристианом Диором. Нам надо свести кое-какие счеты, и хорошо, что наша встреча произойдет здесь, рядом с моими виноградниками и моим жасмином. Ближе к природе я всегда чувствую себя увереннее. А сейчас это необходимо, ведь мне предстоит обсудить с моим напористым братцем очень важные для меня вопросы. Во-первых, люди должны знать: мы с ним живем в двух совершенно разных мирах… У нас нет буквально ничего общего. Он полностью принадлежит своему веку, которому обязан всем; он воображает, будто произвел революцию или, по крайней мере, сенсацию. А я — выходец из буржуазной семьи, которая никогда не забывала о своем происхождении и гордилась им. От нее я унаследовал пристрастие к прочным, устойчивым зданиям, какие любят в Нормандии».
«Многоликий Диор» — это история о мнимом шизофренике, который добился успеха.
I
ОТ ДЕТСКОГО КОСТЮМЧИКА К ТУНИКЕ БЕССМЕРТИЯ
1
Навоз, цветник и роза ветров: детство в доме Диоров
С террасы перед домом видно, как эспланада Пла-Гуссэ играет с волнами. Меня, как остальных посетителей и как членов семьи Диор в былые времена, просят не забывать ключ от нижней калитки сада. Перейдя узкую тропу таможенников, я оказываюсь у лестницы, спускающейся к морю, сбегаю по ней и через минуту попадаю на широкий песчаный пляж с пенистой каймой прибоя, наконец-то я у самого моря, и передо мной — чистый горизонт. До конца прогулки еще далеко, я прошла только половину маршрута и вдруг заметила, что больше не вижу виллу «Румбы», тихую гавань, где прошло детство Кристиана Диора, как будто ей не нашлось места в этом новом пейзаже. Но вот она возникает снова, реет в воздухе, а затем опять пропадает из виду: эту иллюзию исчезновения создают колышущиеся на ветру розы и пышная листва в саду виллы. Редкие, а то и экзотические растения, которые в начале прошлого века посадила здесь мадам Диор вместе с сыном, все еще поражают своей красотой. Это было нелегким делом — устроить на скале над морем сад площадью в целый гектар. Идея принадлежит первому владельцу «Румбов»1: сто лет назад он начал высаживать здесь теплолюбивые растения, надеясь, что они выживут в микроклимате залива Мон-Сен-Мишель.
Дом, прилепившийся к скале
У самого моря перспектива внезапно расширяется, как будто смотришь широкоэкранный фильм. Слева возвышается старая крепость корсаров, стены которой не сразу заметишь среди скал, сплошной стеной тянущихся вдоль берега. А если, гуляя по пляжу, вы поднимете взгляд на дом, он будет виден как на ладони, хотя вы, подгоняемая сильным прибрежным ветром, помимо собственной воли отошли от него довольно далеко. В сущности, это небольшой замок, изначально тяжеловесный и лишенный какого бы то ни было изящества, но затем перестроенный и облагороженный стараниями Мадлен Диор, матери Кристиана и еще четверых сыновей и дочерей. «Она была тоненькая, как тростинка, и ела очень мало»2, — такими скупыми штрихами описывает ее Кристиан в своих мемуарах. Но читатель ясно представляет, какой она была. Хрупкая, аристократичная Мадлен производит впечатление королевы, сосланной в нормандскую глушь. Ей нравится окружать себя растениями, среди них она чувствует себя в безопасности, и для Кристиана это единственная и неповторимая женщина-цветок, роза на слегка склоненном стебле, раскрывающая лепестки навстречу солнцу.
Сын подметил верно. В семье, где все, как истые нормандцы, «любили жить в свое удовольствие и наедаться до отвала», у одной лишь Мадлен тонкая талия. Но женщина, родившаяся в долине Луары, выделяется среди родных мужа не только внешним обликом. Это необычное существо, одинокая, созерцательная натура. Она знает, что должна быть на высоте положения и старается жить по правилам своего класса, крупной буржуазии. Но при одном условии: если ей будет позволено действовать согласно ее собственной тактике, основанной столько же на твердости, сколько на смелости. Мадлен Диор — женщина явно с характером, властная и немного чудаковатая. У ее мужа, Мориса Диора, более традиционные, раз и навсегда сложившиеся взгляды на жизнь. В частности, он считает, что его сын Кристиан, очень способный мальчик, который, правда, излишне склонен к мечтательности и мог бы проявлять больше усердия в учебе, непременно станет дипломатом. Мадлен иначе смотрит на будущее сына. И Кристиану близка ее точка зрения. Он знает, что ему никогда не стать дипломатом. А вот кем он станет, ему пока неясно. Он размышляет.
На семейных фотографиях Мадлен редко улыбается. Ее глаза смотрят на нас из-под томно полуопущенных век. В этом выразительном взгляде проницательность сочетается с кротостью, и кажется, что ее занимает что-то более важное, чем красивая картинка, которую ей обещает фотограф, колдующий над своим таинственным аппаратом. Всматриваясь в ее лицо, обрамленное с двух сторон маленькими сережками, видишь женщину, которая нравится мужчинам, и знает это. Длинная золотисто-каштановая шевелюра, поднятая надо лбом, с небольшим напуском, — пленительная мода Прекрасной эпохи. Чтобы сделать такую прическу, надо втыкать в волосы шпильки, сплетать косички, сворачивать валики над висками: все это требует терпения. Дети понимают, что мать обладает особым, только ей присущим очарованием, и восхищаются этой капризной, ранимой мечтательницей, у которой бывают тревожные предчувствия и приступы меланхолии. Одевается она тоже по моде Прекрасной эпохи, и сын воздаст должное ее элегантности: именно она, и только она будет вдохновлять его, с самого первого дефиле. Мадлен сыграла важную роль в успехе Кристиана Диора, и началось это еще в Гранвиле.
У Мориса и Мадлен Диор пятеро детей. Старший, Раймон, все критикует и вечно не в ладах с отцом, второй, Кристиан, — тихоня и ужасно любопытный, далее следуют непредсказуемый и вспыльчивый Бернар, Жаклин и наконец, самая младшая, Жинетта, любимица родителей, спокойная и рассудительная девочка. Эту сестру, которую Кристиан любит больше всех, по просьбе Бернара семья вскоре переименует в Катрин. Дети читают сказки Перро с иллюстрациями Гюстава Доре, а также более современные книги, в частности, «Матье-завистник» Люсьена Метиве с рисунками автора, и «Мой дядя Бенжамен» Клода Тилье. «В то время, — расскажет позднее Кристиан Диор, — я был очень послушным и очень воспитанным мальчиком, совершенно неприспособленным к самостоятельной жизни».
Когда в 1931 году Мадлен умрет в парижской клинике от послеоперационного заражения крови, для близких это станет нежданным и страшным ударом, последствия которого все они, и в особенности Кристиан, будут ощущать до конца жизни3.
Спустя почти тридцать лет, в 1957 году, Кристиан Диор тоже покинет этот мир, сыграв в последний раз партию в свою любимую карточную игру — канасту. В канасте выигрывает тот, кому удается избавиться от последней карты. Для кутюрье эта игра превратилась в своеобразный ритуал, рассказывает один из его друзей, завсегдатай «диоровских воскресений» в особняке на бульваре Жюля Сандо. Там, среди тяжелых драпировок красного бархата, комнатных растений в сверкающих латунных кашпо, мягких диванов и кресел с позолоченной отделкой, Марк Дельниц, один из «ночных королей» Парижа, каждую неделю играет в канасту в узком кругу друзей — Сюзанны Люлен, сотрудницы модного дома Dior, Кимпи Баумгартнера, оформителя витрин в универсальном магазине «Прентан», бразильянки Марии Фриас и Элен Бонне, супруги французского посла в США. Однако, по мнению Диора, чтобы порадовать гостей, одних карт недостаточно. Где удовольствие и азарт, там должны быть излишества. Марк Дельниц говорит, что в эти воскресные вечера гостей ждали не только карты, но еще и обильное застолье: «Едва мы успевали переварить плотный обед, как слуги приносили полдник, о котором могли бы мечтать все дети мира: густой горячий шоколад, поджаренный хлеб, пирожные, варенье, сваренное из одних фруктов, без сахара, и это была лишь легкая разминка перед роскошным холодным ужином. Только очень здоровая печень могла выдержать такое обжорство, и нам едва хватало недели, чтобы прийти в себя»4. За этой почти детской жадностью к еде, за этими пиршествами легко просматривается страх перед одиночеством и оставленностью: так каждое воскресенье, посреди веселья и азарта, Диор снова превращается в подростка, который потерял мать и не может справиться со своим горем.
Кристиан Диор считал, что заранее предугадал ее кончину. В «Румбах» было маленькое происшествие, которое он воспринял, как зловещее предзнаменование: «со стены упало зеркало и разлетелось на паркетном полу на мелкие кусочки». В мемуарах он искренне и просто рассказывает о смерти матери и о другом своем несчастье: младший брат Бернар был помещен в лечебницу для душевнобольных. Пишет он очень сухо, не находя для себя никаких утешений: «Мой брат заболел неизлечимой нервной болезнью. А затем моя обожаемая матушка стала неприметно угасать и в конце концов умерла от горя». К этому Диор не добавит почти ничего.
Мадлен и роза ветров
Кристиан родился 21 января 1905 года, а всего через несколько месяцев Мадлен, исполненная решимости, уговорила мужа купить дом с садом, который в конце XIX века построил в Гранвиле один судовладелец по фамилии Бест. Она хочет жить именно в этом доме, и ни в каком другом, потому что оттуда бесподобный вид на море и, как она, вероятно, думает, на всю окружающую ее жизнь. Сам по себе дом ничем не поражает, но с террасы глазу открываются бескрайние дали, хорошо видны острова Шозэ, а в ясную погоду можно различить берега Джерси. Это просто находка для тех, кто любит предаваться размышлениям, глядя на горизонт: пустынный морской простор и тишина, которую нарушают лишь монотонный рокот прибоя, жалобное поскрипывание деревьев или жужжание пролетающей осы. Такой пейзаж располагает к самосозерцанию.
Дом, где прошли детские годы Кристиана, был чем-то вроде заповедной зоны в пределах Гранвиля. Когда на рубеже 1920–1930-х годов наступят тяжелые времена, «Румбы» поведут отчаянную борьбу за выживание, но однажды в городе появятся объявления о банкротстве Диоров, здание пустят с молотка, а обстановку распродадут по частям. Уютный дом, ухоженный сад, безоблачное детство: все это бесконечно дорого Кристиану, и ему нелегко будет пережить гибель семейного рая, который он считал незыблемым. На его глазах за какие-то два года исчезнет фамильное богатство, поглощенное пришедшим из Америки финансовым кризисом, уйдет из жизни мать, а младший брат Бернар, мальчик с неустойчивой психикой, переместится в параллельный мир, недоступный для братьев и сестер.
В дальнейшем «Румбы» изведают и взлеты и падения, а со временем будут вызывать у местных жителей только одну ассоциацию: «Это был дом Диоров», — говорят сегодня гранвильцы. Дом горделиво высится посреди парка, который в 1960-е годы полностью преобразился, а в 1970-е обрел новую жизнь, став общедоступным городским парком. А потом фирма Dior приобрела «Румбы» в собственность и в 1992 году впервые провела здесь тематическую выставку. Наконец, когда по инициативе Бернара Арно в доме открыли музей, круг замкнулся. Благодаря успеху диоровского бренда «Румбы» опять стали жилищем юного Кристиана.
Несмотря на все превратности судьбы, на пороге дома сохранилась в первозданном виде мозаика, изображающая розу ветров. Это талисман «Румбов», до сих пор не стертый ногами многочисленных посетителей. Судовладелец, когда-то заказавший проект этого дома, назвал его морским термином «Румбы», который обозначает тридцать два деления розы ветров. Сегодня этот звездчатый цветок, по-прежнему украшающий порог дома Диоров, остается главным символом всей жизни Кристиана.
В 1950-е годы Диор приобрел поместье Колль Нуар близ Монтору; он собирался через какое-то время оставить работу в фирме, переехать туда насовсем и заняться садоводством. Архитектор Андре Свечин, которому было поручено обновить дом, получил особое указание: перед входом на полу должен быть узор, изображающий розу ветров. А еще раньше, сразу после войны, на тротуаре в Париже Диор увидел восьмиконечную звезду, похожую, как ему показалось, на ту самую розу. «Это знак судьбы», — подумал он. Роза и звезда навсегда останутся главными фетишами кутюрье. Они напоминают Кристиану о «Румбах», где прошло его детство. Невозможно понять творческое в#идение Диора, если не пропустить всю историю его семьи, как сквозь игольное ушко, через изображение розы ветров на пороге родного дома.
Кристиан, умный, наблюдательный мальчик, прекрасно понимает, насколько иррациональна привязанность Мадлен к гранвильскому дому, безвкусной постройке в англо-нормандском стиле, которую он в своих мемуарах называет «ужасной… как вообще все постройки в англо-нормандском стиле, возведенные в конце прошлого века», но о которой он на всю жизнь сохранит «нежные, восторженные воспоминания». Два года Мадлен очень умело и успешно занимается реконструкцией «Румбов». Она поставила перед собой амбициозную задачу: защитить дом на скале от ветра. Подобно героине знаменитого романа Маргерит Дюрас «Плотина на Тихом океане», ей придется построить своего рода плотину на Атлантике. Ведь местность вокруг пока еще мало населена, и дом продувается со всех сторон. «Совсем как моя жизнь, в которой никогда не будет покоя», — признается кутюрье. Может быть, он читал Жюля Мишле? В 1861-м этот автор, описывая Гранвиль, отмечает, что жители города, расположенного на скалистом мысу, день за днем бросают вызов природе: «Гранвиль, горделиво вознесшийся над морем, стойко выдерживает яростный натиск волн, то пригоняемых с севера течениями пролива Ламанш, то накатывающих с запада, из самого сердца Атлантики, и вобравших в себя всю ее мощь». Жизнь семьи Диор на скале, где воет ветер, превращается в роман, чем-то напоминающий «Грозовой перевал» с его трагической красотой.
Первые познания в географии Кристиан приобрел, гуляя по лабиринту узких улочек возле дома. Его тогдашний мирок — это переулок Минкье, аллея Норуа, улица Эстутвиль и улица Фалез. А с противоположной стороны у него и у Мадлен, желающей создать здесь свою собственную Ривьеру, — море, эта неотразимая сирена и несносная болтунья, которую вся семья вынуждена слушать и днем, и ночью.
Тогда для жителей дома в цветовой гамме преобладали «нежно-розовая окраска стен и серый гравий. В дальнейшем, — говорит Диор, — в своей работе я всегда отдавал предпочтение этим двум цветам». Серый — это цвет скалы, на которой стоит дом, и небольших скал на пляже, но серый оттенок есть и у многих приморских растений, таких, как бессмертник, цинерария, лох, розмарин и катран. В первые годы нашего столетия ландшафтный дизайнер Гийом Пельрен задумал восстановить сад таким, каким он был в 1910-е годы, когда Мадлен и Кристиан перепланировали его, придав этому ансамблю идеальное стилевое единство. Изучив тогдашние фотографии сада, Пельрен решил воссоздать вольер для птиц в прежнем виде и на том же месте: теперь в нем снова живут птицы. В свое время Мадлен устроила на части территории английский парк, не побоявшись, что его размоет бесконечными гранвильскими дождями. Она проложила новую дорогу, чтобы подниматься на скалу. Кроме того, «моя мать, обожавшая комнатные растения, нарушила гармонию фасада, прилепив к нему неподобающую выпуклость: зимний сад, то есть веранду из стекла и металла, какие были в моде в 1900-е годы», — добавляет Кристиан. Окно веранды украшает большая витражная розетка в виде павлиньего хвоста, свидетельствующая о том, как блестяще тогдашние мастера справились со своей задачей: хозяйка виллы поручила им сотворить настоящий технический шедевр. В зимнем саду содержались различные экзотические растения и бамбук.
Мадлен приняла решение о покупке «Румбов», когда Кристиан только-только появился на свет. Поэтому неудивительно, что дом станет его двойником, чем-то вроде близнеца в облике жилища. Он сам часто говорит о том, как схожи их судьбы: «Местоположение и архитектура «Румбов» оказали огромное, определяющее влияние на мою жизнь и мой стиль». Даже много лет спустя, подбирая себе новое жилье, Диор будет искать что-то похожее, что-то, напоминающее «Румбы» своими очертаниями, звуками, запахами, пусть не вполне идентичное, но и не сильно отличающееся от дома его детства. Пресловутый Допельгангер в немецкой романтической прозе, который завораживал маленького Кристиана, двойник, которого каждый стремится найти, странствуя по свету, для взрослого Диора принял вид любимой игрушки, оставшейся в далеком прошлом. И теперь он пытается воссоздать очарование этой игрушки, хоть и понимает, что все его старания напрасны.
От фетиша к фетишу
Итак, по рассказу Диора, в 1946 году будущий кутюрье увидел на тротуаре парижской улицы металлическую звезду (на самом деле — обломок ступицы от тележного колеса) и внезапно услышал голос судьбы (чтобы не сказать: ощутил непреодолимое влечение), повелевавший ему бросить все, чем он занимался до сих пор, и очертя голову ринуться в бурный, полный приключений мир моды. Ему сорок один год, и то, что юноша из «Румбов» назвал бы чудом, он, зрелый мужчина, воспринимает лишь как игру случая. И тем не менее детство продолжает жить в душе этого художника высокой моды, давно ставшего взрослым, жить и добиваться своего: шагая по столичным улицам, Кристиан каким-то непостижимым образом находит в Париже Гранвиль. Он считает, что ему указывают путь некие тайные знаки, вторящие его затаенному желанию. Он сравнивает их с ориентирами, которые используют на сценической площадке актеры и танцовщики — со многими из этих людей он хорошо знаком, — чтобы знать, откуда им начать движение и где остановиться. Не слишком полагаясь на вдохновение или на магию сцены, они заранее отрезают небольшие полоски широкого скотча и наклеивают на пол. То, что зрители принимают за озарение, ниспосланное свыше, очень часто оказывается таким вот простым трюком; и, кстати сказать, эти трюки прекрасно уживаются с озарениями. Будущий кутюрье, который создаст платья с тщательно отделанной изнанкой и хитроумно устроенные корсеты, твердо верит в подсказки, оставленные на дороге специально для него и словно вырастающие из-под земли при его приближении: они должны помочь ему выполнить его блистательное предназначение. Диор, новый Мальчик-с-пальчик, чувствует себя обязанным подмечать каждое из таких предзнаменований, не упуская ни одного. Как правило, эту роль исполняют предметы, не имеющие никакой практической ценности, всевозможные отбросы и отходы, вроде тех, на которых Морис Диор, отец Кристиана, нажил огромное состояние, основал благополучие своей семьи — вскоре мы увидим, как он разбогател, занимаясь переработкой экскрементов. Таковы уж они, Диоры, все до одного, из поколения в поколение — золотоискатели и алхимики. Мусор, который валяется под ногами, на который никто не обращает внимания, у них становится ценностью.
А пока маленький Кристиан, его братья и сестры бегают и резвятся в «Румбах», в своем уютном мирке, ограниченном, но в то же время полном духовных сокровищ. Дети играют вокруг розы ветров, знака, которым отмечен их дом. По мере того, как они растут, роза рассказывает им всё новые истории. Роза — символ земли и всех возможностей, какие заложены в ней. Этот герб, выложенный на пороге, напоминает еще и татуировку в виде глаза: мистический глаз словно бы заранее видит путь, который выберет для себя каждый из детей. Роза только кажется неподвижной, на самом деле она поворачивается, как штурвал, в зависимости от направления ветра, ведь «Румбы» строил судовладелец, чьи мысли были заняты морскими путешествиями, и хотя внешне дом выглядит как жилище почтенных буржуа, он никогда не станет таким в полной мере.
В 1910 году, когда Кристиану исполняется пять лет, его родители покупают дом в Париже на улице Альберик-Маньяр, и до Первой мировой войны семья будет жить то там, то в Гранвиле. С началом войны Диоры эвакуируются на запад, в Нормандию, и проведут там пять лет, а затем «Румбы» окончательно превратятся в летнюю резиденцию. Вспоминая о начале войны, кутюрье с лукавой, даже несколько саркастической улыбкой описывает поведение своей немецкой гувернантки: «Декрет о мобилизации застал нас в Гранвиле, на каникулах. До этого, когда шли разговоры о войне, наша фрейлейн не хотела уезжать, поскольку она, как и все, не верила в надвигающуюся катастрофу. А когда катастрофа разразилась, она, которую мы считали членом семьи, к нашему изумлению и ужасу заявила, что готова, если понадобится, делать «пиф-паф» во французских солдат».
Итак, в 1918 году Кристиан Диор находится в Гранвиле, тыловом городе, куда прибывают эшелоны с ранеными. Отель «Норманди», а затем и казино превращаются в госпиталь. Женщины тоже не остаются в стороне, вместо обычной благотворительности они берут на себя другие обязанности, делают, что могут, занимаются изготовлением корпии, помогают писать письма на фронт. В свободные минуты они обсуждают новинки парижской моды: оказывается, «в Париже теперь носят короткие юбки и авиационные сапожки с черными, клетчатыми либо золотисто-коричневыми голенищами, зашнурованные до колен». Дамы единодушно возмущаются… и в тот же день каждая отправляет вечерней почтой в Париж заказ на короткую юбку и сапожки. Таково было безотчетное легкомыслие людей той эпохи, «воображавших, будто они стали свидетелями войны в белых перчатках, на манер XVIII века, тогда как это был страшный катаклизм, в котором не уцелело ничего», — прокомментирует Диор.
Жизнь — это произведение искусства
За несколько лет до грохота орудий юный Кристиан в одиночку нанес визит своим деду и бабушке по отцу, живущим в самом сердце Парижа, города, в который он успел безумно влюбиться, и который с детства оставил у него в душе неугасающий отблеск, порожденный чудесами искусства и литературы: «Ко всему прочему я открыл для себя электричество и услышал трагическую реплику Михаила Строгова в спектакле Театра Шатле: «Смотри, Михаил Строгов! Смотри во все глаза!» А кинематограф и фильм «Вокруг света за восемьдесят дней», который тогда показывали в универсальном магазине Дюфайеля, покорили меня окончательно. Мне было пять лет: чудесное время, чтобы всё увидеть и всё запомнить до того, как наступит сознательный возраст с присущим ему унылым логическим мышлением».
Мадлен Диор, в девичестве Мартен, была дочерью адвоката из Анже и нормандки из департамента Кальвадос по имени Жюльетта Сюрон. В мемуарах Кристиана мы находим обаятельный образ бабушки, с которой они были очень близки. С этой женщиной можно говорить обо всем, она обладает энциклопедической культурой, хоть и не получила регулярного образования. Жюльетта готова часами рассказывать внуку всевозможные увлекательные истории, а он в это время невозмутимо рисует ее портрет. По-видимому, Катрин, любимая сестра Кристиана, также унаследовала от бабушки некоторые черты характера, в частности, независимость суждений.
Рано овдовевшая Жюльетта решила привить своей дочери твердые принципы, здоровое честолюбие и любовь к изящному (для этого Мадлен брала уроки музыки). У Жюльетты много общего с внуком, они прекрасно понимают друг друга. Больше всего бабушка интересуется политикой и обожает серьезные разговоры на эту тему, однако не вполне чужда суеверий. Во всяком случае, верит в судьбу.
Мадлен тоже стремится к тому, чтобы ее дети ставили перед собой дерзновенные цели. Жизнь должна быть как произведение искусства, и тогда она неизбежно заставит тебя добиваться успеха. Это еще один вызов, который Мадлен Диор бросает будущему — первым можно считать превращение «Румбов» в зачарованный замок. Она проделала в стене дома широкое окно, чтобы любоваться морем, и перепланировала сад, чтобы в нем чередовались цветники и террасы, и теперь надеется, что близкие не обманут ее ожиданий.
В своем увлечении садоводством Мадлен находит поддержку у Кристиана и Катрин. Мать бесконечно любит цветы с их трогательной хрупкостью и беззащитностью; и дети навсегда сохранят в душе отзвук этой любви, как воспоминание о невозвратимом прошлом. Громадные букеты, клумбы и увитые цветами беседки — это целая жизненная философия. Сад в «Румбах» свидетельствует о постоянной, неусыпной заботе хозяйки, которая принимала в расчет не только смену времен года, но также и расписание приливов, и положение звезд.
Кристиан Диор говорит с матерью на языке цветов, чтобы стать ей еще ближе. Это ради нее он заучивает их мудреные названия, читает их описания с бесконечными подробностями, запоминает, из каких стран они происходят и к каким семействам принадлежат. Так же поступает и Катрин. Впоследствии Кристиан Диор будет говорить о развившейся у них с сестрой склонности к цветоводству как о чем-то очевидном: «Поскольку я унаследовал от матери любовь к цветам, мне нравилось проводить время в обществе растений и в обществе садовников». Одно из этих растений, ландыш, станет для Диора чем-то вроде фетиша, вызывающего в памяти запах лесных цветов, легкий, ускользающий аромат, который так трудно превратить в духи. Его привязанность к цветам, а значит, к матери, безмерна, но об этом почти никто не знает. Шумная музыка в казино, цветочные выставки, которые устраиваются только ради того, чтобы парижане, прибывшие с большим багажом, детьми и толпой слуг, чувствовали себя здесь как на настоящем курорте, — вся эта летняя суета не интересует Диоров. Они отгораживаются от этого, как только могут: «В остальные девять месяцев года мы жили на нашей вилле, как на острове, вдали от Нижнего города, где процветала торговля, и нас практически никто не навещал. Такая уединенная жизнь была мне по душе». Диоры живут в «Румбах», как островитяне.
Фу, Диором понесло!
Пока Мадлен возится у себя в саду или выискивает в специальных газетах (которые она прилежно изучает), либо в цветочных каталогах Вильморена и Андрие (к которым испытывает глубокое почтение) какую-нибудь диковинку, чтобы попытаться ее вырастить, из-за ограды диоровских владений доносятся громкие и нестройные звуки, способные нарушить домашний покой.
Если прислушаться, то в песенке, которую горланят мальчишки Нижнего города, можно явственно расслышать: «Фу, Диором понесло!» Особенно часто она звучит в те дни, когда ветер несет в город зловоние с фабрики удобрений. А еще до «Румбов» долетают ликующие возгласы с пляжа Пла-Гуссе, когда там приветствуют только что избранную королеву Гранвиля. Восторженные приветствия и глумливые вопли: эти две волны звуков придают ритм детству маленьких Диоров.
«Фу, Диором понесло!» В своих мемуарах Кристиан не говорит, как подействовали на него крики мальчишек, которые жители Гранвиля помнят до сих пор. Но мальчишек можно было понять. Если для нас, по уже сложившейся традиции, Dior — это источник волшебных ароматов, то в начале XX века название «Диор» связывалось исключительно с переработкой омерзительных отходов в удобрения и едкие составы для стирки. Как вспоминал впоследствии Кристиан, ему понадобилось время, чтобы понять, почему люди морщили нос, услышав его фамилию.
Что стоит за фамилией Диор?
Кристиан носит фамилию отца, Мориса Диора, человека со сдержанными манерами и вечно нахмуренными бровями. В представлении малыша образ отца нередко сливается с монументальным, вызывающим трепет письменным столом в отцовском кабинете, громадной комнате, куда он заходит не очень охотно. Кабинет наводит на ребенка «священный ужас». Судя по описанию этой мрачноватой комнаты, которое оставил нам Кристиан, Морис Диор отличался строгостью. В кабинете (описывая его, Диор, вопреки обыкновению, приводит массу подробностей), помимо прочего, висело декоративное латунное панно в стиле Ренессанс, изображавшее двух алебардщиков, «и у них, как мне казалось, был особенно грозный вид. Хотя мой отец был очень добрым человеком, я, входя к нему в кабинет, почти всегда ощущал некоторую робость. Обычно меня призывали туда, чтобы устроить нагоняй или чтобы я посмотрел, как действует телефон, таинственное, чудесное изобретение, которому мы не переставали удивляться». При кабинете есть маленькая застекленная веранда: там, в корпусе напольных часов, за запертой дверцей, ключ от которой хранится у Мориса Диора, спрятан телефон. Когда за дверцей раздается звонок, сперва тихо, потом все громче и громче, кажется, будто это ревет разъяренный зверь, рвущийся на свободу из клетки. В кабинете также есть отдельный вход, чтобы семье не докучали постоянные посетители, служащие семейных предприятий, тех самых фабрик, от которых, как выразилась бы Зази, героиня Раймона Кено, «воняет до невозможности».
Кристиану случалось бывать на отцовских фабриках, и эти экскурсии произвели на него гнетущее впечатление. Именно после этого он сказал себе, что никогда не станет «служить в конторе, учреждении или иной подобной структуре». Такое заявление свидетельствует о решимости, какую редко можно встретить у подростка. Он не пойдет на открытый конфликт с родными, просто будет постепенно, последовательно уклоняться от участия в семейном бизнесе. И кризис 1929 года только поможет ему в этом, хотя он, по-видимому, еще раньше осознал, что не впишется в традиционную схему, на которой в те времена основывалось экономическое процветание всех стран Европы: переход предприятия от деда к отцу, а от отца к сыну. Влиятельные семьи промышленников, успевшие за несколько поколений выработать собственную мифологию и обзавестись наследственным честолюбием, охотно культивировали такой династический принцип.
Чтобы узнать другую, прозаическую сторону жизни этой семьи, надо вновь пройти по пляжу у подножия «Румбов», на время забыв о дивной красоте побережья, а затем обогнуть скалу. Там, в Сен-Николя-пре-Гранвиль, мы увидим источник процветания Диоров до «Диора» — нечистоты, удобрения и щелок для стирки.