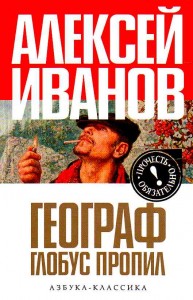Географ пропил все, или Запрет на счастье
Лена Блюмина
Так надоело, когда все плохо, так хочется, чтобы все было хорошо. Ну, если не все, так хоть что-нибудь. Ладно, пусть не во всей стране, так хоть в одном городе. Не получается в целом городе, так хоть в одной, отдельно взятой семье. Тем более, что люди-то все хорошие, добрые, славные, остроумные даже, а вот не живется им счастливо, хоть ты тресни! Это я про географа, который пропил, профукал, проморгал все на свете, начиная с пресловутого глобуса и заканчивая собственной жизнью в романе Алексея Иванова. Но ведь хочется-то, чтобы было хорошо хорошим-то людям, чтобы не все безнадежно было. Это я уже про одноименное кино «Географ глобус пропил». Кто не смотрел – посмотрите обязательно, потому что фильм достойный: и режиссура, и игра актерская – все радует. Но вот финал имеет мало общего с романом. Пересказывать кино не буду, чтобы не портить вам удовольствие от просмотра, а про книгу поговорить хочется. Потому что она очень-очень русская, я бы даже сказала – достоевская такая.
Вот что происходит с семейной жизнью главного героя, симпатичнейшего Виктора Служкина: жена его больше не любит и не хочет, а посему спать с ним в одной постели больше не желает. Это не значит, однако, что она собралась в монастырь, совсем напротив – свято место пусто не бывает, и она влюбляется в однокашника мужа – Будкина, который к тому же не беден и умеет пить горькую без особого ущерба для здоровья. И он в нее влюбляется. И муж-то не препятствует счастию любящих – лишь бы всем хорошо было! Так ведь нет же, не уходит Надя к любовнику от безвольного, безработного, вечно пьяного географа: это ведь было бы слишком просто – жить хорошо и счастливо. Не по-русски как-то, не по-нашему. И не нужно каких-то причин более-менее внятных. Тут главное что? Главное – пострадать всласть:
—— Позволь, а причина?
— Нет причины. Я почувствовала, что хватит, — и закончила, вот и вся причина.
— А ты его по-прежнему любишь?
— Да.
— А он тебя?
— И он меня.
— Странно все это… Самомучительство какое-то…
— Тебе не понять. Но так надо. А ты сам знаешь: если я чего решила — так и будет. В отличие от тебя, я не безвольная тряпка.
Кому, спрашивается, надо? Зачем надо? Кем придумано, что надо не жить, а мучиться?
Служкин задумчиво закурил другую сигарету.
— И что, тебе сейчас очень плохо?
— Очень, — спокойно и искренне призналась Надя. — Но в твоих утешениях я не нуждаюсь.
Ну ладно, вернулась блудная овечка в лоно семьи. Может, и вправду – так надо… ребенок там, чувство долга, не совсем умершие чувства к мужу, в конце концов. Может, можно как-то склеить этот разбитый горшок, да и жить-поживать, добра наживать? Нет, зачем же, это было бы слишком хорошо, банально, по-мещански, что ли, по-обывательски (о, как ненавидит русская литература мещан-обывателей!). Вот вам, чтобы не радовались, не расслаблялись:
— Ну а мне что делать? Перелететь с диванчика на кроватку?
— Нет. — Надя устало покачала головой. — Живи на своем диванчике. Между нами все остается по-прежнему. И навсегда.
Вот так вот: наступаю на горло собственной песне, приношу себя в жертву, возвращаюсь в семью, а только не будет тебе, гаду, радости. Сам мучайся, да еще смотри на меня, как я с тобой, нелюбимым, мучаюсь, как ты мой век заедаешь!
Чем не Достоевский? Хотя отнюдь не с Федора Михалыча пошел в русской литературе этот кошмарный запрет на счастье вообще (ну, еще через страдание можно его кое-как достигнуть, а так, за здорово живешь – ни-ни, даже не надейся!) и на семейное счастье в частности. Я уж не говорю про множество несчастливых семей («Жил старик со своею старухой у самого синего моря…»), но много ли вы знаете счастливых в русской классической литературе, на которой мы все выросли, которую читали школьниками, и она воздействовала на наши не окрепшие еще организмы и души? А если даже и не читали, а так – проходили, оновные-то идеи и образы все равно в сознании осели и прочно закрепились в нашем «коллективном бессознательном». А то, что закрепились очень прочно, наблюдала самолично. Когда еще несколько лет назад на вступительных экзаменах писали сочинения, случилась как-то тема «Хороша была бы жизнь Ленского, если бы тот не погиб на дуэли?» За точность формулировки не ручаюсь, но смысл такой. И вот практически все абитуриенты, выбравшие эту тему, написали примерно следующее: это хорошо, что Ленский так вовремя погиб, а то жизнь бы его ждала совсем тоскливая. Ну что это за радость, в самом деле, быть счастливо женатым и умереть в своей постели в кругу плачущих чад и домочадцев:
Прошли бы юношества лета:
В нем пыл души бы охладел.
Во многом он бы изменился,
Расстался б с музами, женился,
В деревне, счастлив и рогат,
Носил бы стеганый халат;
Узнал бы жизнь на самом деле,
Подагру б в сорок лет имел,
Пил, ел, скучал, толстел, хирел,
И наконец в своей постеле
Скончался б посреди детей,
Плаксивых баб и лекарей.
Вот так вот, если женат и счастлив, то уж непременно рогоносец, как же иначе? Хотя далеко не все абитуриенты вообще понимали смысл слова «рогат» (как предположила одна моя ученица – «разводил рогатый скот?»), такую спокойную, обыденную жизнь, такое счастье они все дружно категорически отвергали и радостно вбивали осиновый кол в грудь несчастного поэта. «А он, мятежный, просит бури…»
Но вернемся к нашим баранам, счастливым семьям, то бишь. Итак, по амбарам помели, по сусекам поскребли — наскребли кучку небольшую любящих парочек, так давайте их поближе рассмотрим.
Вот капитан Миронов со своей Василисой Егоровной (А.С. Пушкин «Капитанская дочка»):
Между тем подали щи. Василиса Егоровна, не видя мужа, вторично послала за ним Палашку. «Скажи барину: гости-де ждут, щи простынут; слава богу, ученье не уйдет; успеет накричаться». — Капитан вскоре явился, сопровождаемый кривым старичком. «Что это, мой батюшка?» — сказала ему жена. — «Кушанье давным-давно подано, а тебя не дозовешься». — А слышь ты, Василиса Егоровна,- отвечал Иван Кузьмич, — я был занят службой: солдатушек учил.
«И, полно!» — возразила капитанша. — «Только слава, что солдат учишь: ни им служба не дается, ни ты в ней толку не ведаешь. Сидел бы дома да богу молился; так было бы лучше»
Классический подкаблучник и любящая, заботливая супруга-деспот. Кстати, действительно любящая и абсолютно преданная, но вот ведь ни в грош мужа не ставящая. И захочется ли вам такого семейного счастья? Однако,
Подумайте, всегда вы можете его
Беречь, и пеленать, и посылать за делом.
Муж-мальчик, муж-слуга, из жениных пажей –
Высокий идеал московских всех мужей.
Герой Грибоедова едок до сарказма и уж точно себе такого не желает.
Едем дальше. Н.В. Гоголь, «Старосветские помещики»: Афанасий Иванович Товстогуб и жена его Пульхерия Ивановна Товстогубиха. Милейшие люди, всю жизнь свою прожившие в любви и согласии:
Нельзя было глядеть без участия на их взаимную любовь. Они никогда не говорили друг другу ты, но всегда вы; вы, Афанасий Иванович; вы, Пульхерия Ивановна. «Это вы продавили стул, Афанасий Иванович?» — «Ничего, не сердитесь, Пульхерия Ивановна: это я»
Ну чем не образец для подражания? Да вот только чем же заняты эти милые старички всю жизнь? Главным образом – приготовлением еды и ее поглощением. Тоже как-то не вдохновляет, да и детей у них нет. А Маниловы, Маниловы-то! — скажете вы. Вот ведь счастливая, любящая семья. И детей двое, и
Несмотря на то, что минуло более восьми лет их супружеству, из них все еще каждый приносил другому или кусочек яблочка, или конфетку, или орешек и говорил трогательно-нежным голосом, выражавшим совершенную любовь: «Разинь, душенька, свой ротик, я тебе положу этот кусочек». — Само собою разумеется, что ротик раскрывался при этом случае очень грациозно… И весьма часто, сидя на диване, вдруг, совершенно неизвестно из каких причин, один оставивши свою трубку, а другая работу, если только она держалась на ту пору в руках, они напечатлевали друг другу такой томный и длинный поцелуй, что в продолжение его можно бы легко выкурить маленькую соломенную сигарку. Словом, они были то, что говорится счастливы.
Все хорошо, только сладко до приторности, аж скулы сводит, да и заняты эти люди по жизни прожектами бессмысленными, да всякими пустяками:
Ко дню рождения приготовляемы были сюрпризы: какой-нибудь бисерный чехольчик на зубочистку.
Маниловщина, одним словом.
И уж кто совсем добил идею семейного счастья, можно сказать, вколотил последний гвоздь в ее гроб, так это «матерый человечище» Лев Толстой. Вот его счастливые, «верные супруги и добродетельные матери» (эпилог «Войны и мира»):
Николай жил с своей женой так хорошо, что даже Соня и старая графиня, желавшие из ревности несогласия между ними, не могли найти предлога для упрека; но и между ними бывали минуты враждебности. Иногда, именно после самых счастливых периодов, на них находило вдруг чувство отчужденности и враждебности; это чувство являлось чаще всего во времена беременности графини Марьи. Теперь она находилась в этом периоде.
— Ну, messieurs et mesdames, — сказал Николай громко и как бы весело (графине Марье казалось, что это нарочно, чтобы ее оскорбить), — я с шести часов на ногах. Завтра уж надо страдать, а нынче пойти отдохнуть. — И, не сказав больше ничего графине Марье, он ушел в маленькую диванную и лег на диван.
«Вот это всегда так, — думала графиня Марья. — Со всеми говорит, только не со мною. Вижу, вижу, что я ему противна. Особенно в этом положении». Она посмотрела на свой высокий живот и в зеркало на свое желто-бледное, исхудавшее лицо с более, чем когда-нибудь, большими глазами.
Чувствовать, что ты противна мужу — то-то счастье! А что любимая героиня Толстого, Наташа Ростова, та, что печалилась в юности «Ах, отчего люди не летают!»?
Наташа вышла замуж ранней весной 1813 года, и у ней в 1820 году было уже три дочери и один сын, которого она страстно желала и теперь сама кормила. Она пополнела и поширела, так что трудно было узнать в этой сильной матери прежнюю тонкую, подвижную Наташу. Черты лица ее определились и имели выражение спокойной мягкости и ясности. В ее лице не было, как прежде, этого непрестанно горевшего огня оживления, составлявшего ее прелесть. Теперь часто видно было одно ее лицо и тело, а души вовсе не было видно. Видна была одна сильная, красивая и плодовитая самка. Очень редко зажигался в ней теперь прежний огонь… Наташа не следовала тому золотому правилу, проповедоваемому умными людьми, в особенности французами, и состоящему в том, что девушка, выходя замуж, не должна опускаться, не должна бросать свои таланты, должна еще более, чем в девушках, заниматься своей внешностью, должна прельщать мужа так же, как она прежде прельщала не мужа. Наташа, напротив, бросила сразу все свои очарованья, из которых у ней было одно необычайно сильное — пение. Она оттого и бросила его, что это было сильное очарованье.
Что ж. ситуация довольно распространенная, суровую правду жизни показывает классик. Хотя, спрашивается, кому бы стало хуже оттого, что Наташа продолжала бы петь и следить за собой – мужу, детям? И это притом, что к услугам графини Безуховой был целый штат крепостной дворни! Так нет же,
Она, то что называют, опустилась. Наташа не заботилась ни о своих манерах, ни о деликатности речей, ни о том, чтобы показываться мужу в самых выгодных позах, ни о своем туалете, ни о том, чтобы не стеснять мужа своей требовательностью… Предмет, в который погрузилась вполне Наташа, — была семья, то есть муж, которого надо было держать так, чтобы он нераздельно принадлежал ей, дому, — и дети, которых надо было носить, рожать, кормить, воспитывать.
И ничего уж из ряда вон выходящего вроде, а противно как-то… Покажите мне хоть одну девушку в здравом уме и твердой памяти, которой захочется быть похожей на эти портреты счастливых жен?
А вот и не менее счастливый супруг:
Подвластность Пьера заключалась в том, что он не смел не только ухаживать, но не смел с улыбкой говорить с другой женщиной, не смел ездить в клубы, на обеды так, для того чтобы провести время, не смел расходовать денег для прихоти, не смел уезжать на долгие сроки, исключая как по делам, в число которых жена включала и его занятия науками, в которых она ничего не понимала, но которым она приписывала большую важность.
И где же они, отечества матери и отцы, Которых мы должны принять за образцы? Чью семейную жизнь хотелось бы принять за образцы?
Короче, друзья мои, на свете счастья нет, но есть покой и воля. Вот и герой Алексея Иванова, к которому вернулась любимая, но нелюбящая жена, совершенно смирился со своей участью:
Служкин на балконе курил. Справа от него на банкетке стояла дочка и ждала золотую машину. Слева от него на перилах сидел кот. Прямо перед ним уходила вдаль светлая и лучезарная пустыня одиночества.
|
|