Эдвард Радзинский «Князь. Записки стукача»
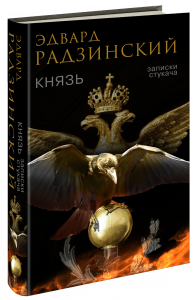 Когда я подошел к зеленому забору и начал искать отодвигавшуюся доску, меня окликнул грязный старик. В бесформенных лохмотьях опытный взгляд мог разглядеть когда-то дорогую шубу с оторванным (должно быть, проданным) бобровым воротником.
Когда я подошел к зеленому забору и начал искать отодвигавшуюся доску, меня окликнул грязный старик. В бесформенных лохмотьях опытный взгляд мог разглядеть когда-то дорогую шубу с оторванным (должно быть, проданным) бобровым воротником.
Он прошептал беззубым ртом: «Не ходите туда, милостивый государь.. . там засада — милиция… Все отняли — жемчуг, золото. . .» И осекся, ибо в этот момент узнал меня.
В моей такой же грязной, потерявшей всякий вид шубе узнать меня было непросто… впрочем, как и его.
Старик с удивительной резвостью пошел прочь.
Я устремился за ним.
— Вот так встреча! — громко шептал я. — Куда же вы, ваше превосходительство?
Он не оглянулся…
Две грязные бесформенные шубы мчались по улице.
Красногвардеец, стоявший на углу, проводил нас взглядом, и я тотчас раздумал догонять.
Теперь я точно знал — это был он.
Его я заметил уже на второй день после того, как перебрался в квартиру дяди.
Тогда, пытаясь заснуть в ледяной квартире, я старательно содрал все занавеси с окон. Вместе с одеялом они должны были согреть голодное тело… И в обнажившееся окно кухни я увидел такое же голое окно в доме напротив.
Старик стоял в кухне и что-то варил.
Я сходил с ума от голода. Я принес бинокль дяди — разглядеть, что он варил. И тогда мне пришла в голову ясная мысль: убить варившего! Мне, вчерашнему Его Превосходительству… убить! Как тонка пленка цивилизации…
И, решившись убить, я поднял бинокль и… не поверил своим глазам.
Это был он! Или… видение от голода? Мне показалось?
В этот момент он почему-то странно заспешил прочь с кухни. На следующий день окно было завешено какими-то лохмотьями.
Я знал его с девятнадцати лет… О нашей первой встрече расскажу после.
Две последние случились накануне конца Империи…
Заканчивался февраль семнадцатого года. Я был влиятельным членом кадетской партии. И все свое огромное состояние, одно из самых больших в России, тратил на нужды партии. Было ясно — нам надо спешить… Империя шла ко дну. На фронте — одни поражения. Военные гробы — тысячами, каждый день. И царь, «безумный шофер» (как мы его тогда называли), прямиком мчал нас всех в пропасть.
Но уже 20 февраля руководство партии собралось в моей квартире.
Гора бобровых шуб в передней… Старый Фирс с седыми бакенбардами в дорогой ливрее, похожий на генерала. Все, что нынче безвозвратно исчезло…
Я выступал с докладом: «Жалкая слякотная власть ведет нас к революции. Это будет наша русская революция. Революция гнева и мести темных низов. Это будет наш русский бунт — бессмысленный и беспощадный… Реки крови! Мы обязаны перехватить инициативу, господа…»
Было решено устроить переворот. Приехавший с фронта генерал должен был захватить царя, когда он будет возвращаться из Ставки в Царское Село… и заставить отречься.
Но его агент (как всегда) оказался среди нас…
Вскоре я получил приглашение явиться в Департамент полиции — к нему. На повестке стояла дата: 25 февраля 1917 г.
Сколько раз за свою жизнь я получал от него эти приглашения…
Решился бежать, и немедля. Но когда подошел к окну, увидел: трое в котелках и одинаковых черных пальто прогуливались у моего дома.
Он открыто установил наружное наблюдение. Чтобы я понял: бежать поздно. Обычный его прием — повесить топор над головой. «Неотвратимость наказания» — его любимые слова.
Но русский фарс торжествовал: прийти к нему в Департамент полиции мне не довелось. Пришлось прийти ему ко мне. Ибо началась Революция… В три дня погибла трехсотлетняя империя… Толпа громила полицейские участки. Дым, гарь стояли в те дни над Петербургом — горели Департамент полиции, суд, охранка… Царский поезд так и не смог пробиться в Царское Село — его заперли на станции с удачным названием «Дно».
3 марта я узнал: царь отрекся от престола.
Я стал товарищем министра юстиции, одним из организаторов знаменитой Чрезвычайной комиссии. Комиссия расследовала преступления высших царских чиновников и феномен Распутина.
На первое заседание собрались в Зимнем дворце…
Поднимаясь по парадной Иорданской лестнице, я вспоминал свой первый бал во дворце… Помню, как обрушилось на меня тогда все ее великолепие — сверкали мраморные стены с золоченой лепкой, тысячи свечей — в зеркалах и гигантский лазоревый плафон с богами Олимпа — над головой… Вдоль лестницы — шпалеры казаков в черных бешметах и«арапы» в малиновых куртках, в белых тюрбанах. Между ними текла наша толпа — ослепительно белые и
кроваво-красные мундиры, сверкающие каски с золотыми и серебряными орлами… Дамы с обнаженными алебастровыми плечами, у корсажей мерцал «шифр» — осыпанный бриллиантами вензель царицы, знак фрейлины…
Высокий седой красавец государь Александр Второй и хрупкая императрица с лазоревыми глазами открывали бал в придворном полонезе…
Теперь вместо этого видения из «Тысячи и одной ночи» — пустая грязная лестница. На мраморных ступенях — солдатские окурки… А те, кто приглашался на эти придворные балы, нынче сидели в сырых казематах Петропавловской крепости.
В Зимнем дворце мы только заседали… Допрашивали заключенных обычно в самой крепости. Помню комнату, где шли допросы. Из окна виден беспощадный золотой шпиль и летящий ангел на нем.
Ко мне приводили вчерашнего премьер-министра Голицына. Как же он был стар — в паузах допроса дремал… И мою петербургскую знакомую Аню Вырубову. Она сильно хромала, подпирала плечо костылем, плакала… Вчерашние владыки мира — в них появилось что-то трогательное, беспомощное, беззащитное, детское… Таков человек — в горе и унижении становится ребенком.
Но он остался прежним.
Когда его привели, насмешливо поглядел на меня:
— Видите, как повернулось. Вчера я собирался вас допросить, а сегодня вы меня допрашиваете… Но впереди у нас с вами еще «завтра», — и усмехнулся. Потом спросил: — Сколько же лет мы знакомы?
— Сорок восемь.
— Почти юбилей. Сколько вам было, когда мы встретились?
— Девятнадцать.
— Да и я был на какие-то двенадцать лет старше. Всю жизнь мы прожили с вами бок о бок. Интереснейшая была у нас с вами жизнь… Опишите, коли останетесь живы. Вы ведь и журналистикой успешно баловались… Однако, что это я вас допрашиваю — вы ведь должны меня… К
огда я начал допрос, он все с той же насмешкой прервал:
— Где же стенограф? Вижу, сами решили записывать мои показания.. . Боитесь, все расскажу?.. Но в ваших глазах — веселые огоньки. Дескать, рассказать можно, но как доказать? Ведь здание бедного Департамента полиции — тю-тю.. . сгорело, и все архивы сгорели.. . Наверняка кто-то
из ваших постарался.. . — Он засмеялся. — Этого я и ждал… Слишком много наших было среди ваших. . . Но позвольте напомнить: когда Наполеон прогнал хитреца Фуше из Министерства полиции, его преемник нашел архив.. . абсолютно пустым! Исчезли все секретные бумаги и главное — списки агентов. Наполеон в бешенстве клял Фуше «мерзавцем». И Фуше сказал тогда замечательную фразу: «Возможно, я принадлежу к мерзавцам, но к жертвам — никогда». Вот и я тоже.. . запасся. Так сказать, сохранил личный архив. — И добавил мрачно: — Не бойтесь, вас не трону. . . пока. Ну, допрашивайте.
Мои вопросы были о влиянии Распутина.
Он отвечал все так же насмешливо:
— Никакого влияния не было и быть не могло. Что же касается бесконечных ссылок в письмах царицы на пророчества Распутина, то Александра Федоровна была хоть и психопатка, но интуитивно хитра. И когда хотела чего-то добиться от несчастного царя, объявляла свое желание… предсказанием Распутина! Причем сама в это верила… На другой распространенный вопрос отвечаю: Распутин с ней не спал. Была она уже немолода и, главное, худая, а Распутин, как все мужики, любил очень пышных… Да вы и сами отлично все это знаете, так что непонятно, зачем меня вызвали!..
Когда его уводили, он повторил:
— Ишь как обернулось! Вчера я вас хотел допросить, а сегодня вы меня допросили. — И, засмеявшись, старый дьявол добавил: — Я вас еще раз предупреждаю: впереди у нас «завтра».
И ведь как в воду глядел!
Октябрьский переворот… Большевики окружили Зимний. Я до конца находился во дворце, сидел в маленькой бело-мраморной зале заседаний правительства вместе с министрами…
Помню этот приближающийся человеческий рев, топот…
В распахнувшуюся дверь ворвались скопом… Толпа. Вперед вынырнул типичный интеллигент в пенсне и в какой-то романтической оперной шляпе с широкими полями. Встал перед столом, вынул из кармана лист бумаги и, близоруко щурясь через пенсне, торжественно прочел: «Именем
Революционного Военного Совета Временное правительство объявляется низложенным».
Восторженный рев и гогот солдатни, набившейся в комнату.
Я сидел совсем рядом с ним. И когда он опустил исторический лист, увидел, что это была… ломбардная квитанция.
Тогда еще не вошло в обычай тотчас расстреливать. Солдатня повела нас в ту же Петропавловскую крепость. По дороге нашу процессию по ошибке трижды обстреляли. Спасаясь от пуль, мы падали прямо в октябрьскую слякоть. Можно представить, в каком виде я вошел в камеру. . .
В камере на койке сидел… он!
Он засмеялся:
— А я вас давно поджидаю. Вот и пришло «завтра»… Стоило тратить вам теткино состояние… Столько миллионов ухлопать на Революцию, чтобы в конце концов попасть сюда. А я ведь собирался посадить вас совершенно бесплатно…
Уже на следующий день его, руководившего сыскной полицией Империи при трех императорах, отправившего на виселицу множество революционеров, начиная с террористов народовольцев и кончая большевистскими боевиками, эти же большевики выпустили из тюрьмы «в связи с преклонным возрастом»!
Видимо, кому-то из очень влиятельных большевиков пришлось постараться. . . Что делать, немало нас, революционеров, были тайными невольными и вольными его сотрудниками. Так что не один я боялся его архива.
Уходя на волю, он сказал мне:
— Желаю вам счастливого завершения вашего романа с Революцией.
Его освободили, а мне, несмотря на все заслуги перед Революцией, пришлось бежать из крепости.
И вот мы встретились в третий раз. Любит русский Бог Троицу.


