Ричард Харвелл «Колокола»
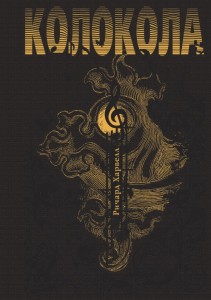 Вначале были колокола. И было их три, отлитых из гнутых лопат, грабель и мотыг, треснувших котлов, затупившихся лемехов, одной ржавой печи — и по одной золотой монете на каждый колокол. Были они черными и грубыми, кроме серебристых губ, по которым моя мать нанесла колотушками миллионы ударов. Роста она была небольшого, и непросто было ей танцевать под ними на колокольне. Когда она размахивалась, ее ступни отрывались от гладких деревянных половиц, так что после удара колотушкой по колоколу звон шел от самой его короны до кончиков пальцев ног моей матери.
Вначале были колокола. И было их три, отлитых из гнутых лопат, грабель и мотыг, треснувших котлов, затупившихся лемехов, одной ржавой печи — и по одной золотой монете на каждый колокол. Были они черными и грубыми, кроме серебристых губ, по которым моя мать нанесла колотушками миллионы ударов. Роста она была небольшого, и непросто было ей танцевать под ними на колокольне. Когда она размахивалась, ее ступни отрывались от гладких деревянных половиц, так что после удара колотушкой по колоколу звон шел от самой его короны до кончиков пальцев ног моей матери.
Они были самыми громкими колоколами на Земле — так говорили все урнерцы[1], хотя известен мне сейчас колокол куда более мощный, но само расположение этих колоколов высоко над долиной Ури делало звук их воистину громогласным. Он разносился от вод озера Люцерн до снегов перевала Готтард. Приветствовал торговцев, шедших из Италии. Колонны швейцарских солдат зажимали ладонями уши, когда маршировали по дороге Ури. Когда колокола начинали звучать, воловьи стада отказывались двигаться. У самых тучных мужчин от сотрясения чрева пропадало желание есть. Коровы, которые паслись на соседних пастбищах, давным-давно оглохли. Даже самые молодые из подпасков были глухими, как старики, хотя и прятались в своих хижинах утром, днем и ночью, когда моя мать звонила в свои колокола.
В этой колокольне, над крошечной церковью, я родился. Там мать кормила меня грудью. Там мы спали, если было тепло. Когда мать не лупила колотушками, мы сворачивались клубком под колоколами, и четыре стены колокольни были открыты всем ветрам. Она закрывала меня от ветра и гладила рукой по лбу. И хотя ни она, ни я не сказали друг другу ни слова, она внимательно смотрела на мои губы, когда начал я лепетать свои первые детские звуки. Бывало, она щекотала меня, и я смеялся. Когда я выучился ползать, она держала меня за ногу, чтобы я ненароком не подполз к краю, и не разбился насмерть о торчавшие внизу камни. Она помогала мне вставать на ноги. Я держался за ее указательные пальцы, и она водила меня вдоль края колокольни, круг за кругом, может быть, раз сто на дню. Если говорить о пространстве, наша колокольня была миром весьма небольшим; многие даже сказали бы, что она была тюрьмой для маленького мальчика. Но что касалось звуков, это был громаднейший дом на всей земле. Все звуки, когда-либо родившиеся, были заключены в металле этих колоколов, и в тот момент, когда моя мать наносила по ним удар, она выпускала в мир всю их красоту. Сколько ушей слышали разносившееся по горам эхо оглушительного колокольного звона. Они ненавидели его, они вдохновлялись его мощью; или, как завороженные, смотрели невидящими глазами в небо, или плакали, когда вибрация вытрясала из них печаль. Но они не находили это прекрасным. Просто не могли. Вся красота колокольного звона предназначалась только моей матери и мне.
Как бы мне хотелось, чтобы это было началом: моя мать и эти колокола, Ева и Адам моего голоса, моих радостей и печалей. Но, конечно же, все это неправда. У меня есть отец; и у матери моей он тоже был. И у колоколов — у колоколов тоже был отец. Им был Ричард Килхмар, который однажды ночью 1725 года стоял, шатаясь, на столе, и был настолько пьян, что вместо одной луны видел две.
Он закрыл один глаз и сильно сощурил другой, чтобы две луны собрались в одно расплывчатое небесное тело. Оглянулся вокруг: две сотни человек заполняли Альтдорфскую площадь, находившуюся в городе, который был расположен (и очень этим гордился) в самом центре Швейцарской Конфедерации. Эти люди праздновали урожай, восшествие на престол нового папы римского, и теплую летнюю ночь. Две сотни мужчин, стоявших по щиколотку в пропитанной мочой грязи. Две сотни мужчин с кружками, в которых плескался крепчайший шнапс, сваренный из груш долины Ури. Две сотни мужчин столь же пьяных, как и сам Ричард Килхмар.
— Тихо! — закричал он в ночь, которая казалась ему такой же теплой и ясной, как мысли в его голове. — Я буду говорить!
— Говори! — завопили они.
Все затихли. Высоко вверху, в лунном свете сияли Альпы, как зуб в черных гниющих деснах.
— Все протестанты — собаки! — заорал он, поднимая свою кружку, и чуть не свалился со стола. Они дружно приветствовали его и прокляли собак из Цюриха, которые были богаты. А потом прокляли собак из Берна, у которых были пушки и армия, и которые, будь у них на то желание, могли забраться в горы и завоевать Ури. И еще они прокляли собак в землях германских, которые были дальше на север, и где никогда не слышали об Ури. Они ненавидели собак за то, что те ненавидели музыку, поносили Марию, и еще за то, что хотели переписать Библию.
Эти проклятия, уже две сотни лет набивавшие оскомину в европейских столицах, пронзали сердце Килхмара. От них на глаза наворачивались слезы — эти люди, стоявшие перед ним, были его братьями! Но что он мог им сказать? Что мог он им пообещать? Так немного! Он не мог построить им форт с пушками. Хоть и был он одним из богатейших людей в Ури, но предложить им армию он был не в состоянии. Не мог он утешить их и своей мудростью, поскольку был человеком немногословным.
А потом они услышали это — ответ на его безмолвную мольбу. Звон, который заставил их воздеть к небесам мутные глаза. Кто-то забрался на церковную колокольню и забил в церковный колокол. Это были самые прекрасные, самые душераздирающие звуки, которые только доводилось слышать Ричарду Килхмару. Они отражались от стен домов. Эхом откликались в горах. Этот колокольный звон щекотал ему надутое брюхо. И когда он прекратился, наступившая тишина была такой же теплой и мокрой, как слезы, которые Килхмар вытер со своих глаз.
Он кивнул толпе. И в ответ ему кивнули две сотни голов.
— Я дам вам колокола, — прошептал он. И поднял свою кружку к полуночному небу. И возвысился голос его до крика. — Я построю церковь, в которой найдут они свое пристанище, высоко в горах, так, чтобы звон их эхом отдавался в каждой пяди земли Ури! И будут они самыми громкими и самыми прекрасными колоколами вовеки веков!
И они завопили еще громче, чем прежде. Ликуя, воздел он руки свои к небесам. Шнапс разгладил морщины на челе его. И погрузил он взгляд свой, как и каждый мужчина на площади, на дно кружки, и осушил ее до дна, скрепив этим, как печатью, Килхмарову Клятву.
А выпив последнюю каплю, покачнулся Килхмар, оступился и упал. И провел остаток ночи, лёжа в грязи и грезя о своих колоколах.
Когда он проснулся, над ним нависал круг синего неба в обрамлении из двенадцати благоговейных рож.
— Веди нас! — возопили они.
Казалось, что восторженное их благоговение подняло его на ноги, а сделав глотков шесть, а то и восемь из их фляг, почувствовал он себя и вовсе невесомым. И вскоре оказался на своем коне во главе процессии: полсотни лошадей, несколько повозок с бабами, детишки с собаками носятся по траве. Куда их вести — он не знал, поскольку еще вчера горы были для него опасными и враждебными. А сегодня вел он людей по дороге из Ури в Италию, к папе римскому, к снежным равнинам, блестящим в солнечных лучах, а потом, когда воодушевление охватило его, свернул он с дороги и начал восхождение.
Все выше и выше взбирались они, почти до самых отвесных скал со снежными вершинами. Вел за собой Килхмар пять сотен урнерцев, и они шли вслед за ним, пока не достигли скалистой возвышенности, откуда посмотрели на равнину, простиравшуюся перед ними, и реку Рёйс, тонкой белой нитью прошивавшую ее.
— Здесь, — прошептал он. — Здесь.
— Здесь, — эхом откликнулись они. — Здесь.
И потом повернулись, чтобы взглянуть на крошечную деревушку под ними, казавшуюся оттуда не более чем кучкой убогих домишек. Селяне с крошечными коровами в благоговении смотрели на собравшихся вверху.
Эта крохотная, изнуренная голодом деревня, о которой я пишу, называлась Небельмат. В этой деревне я родился (да сгорит она дотла, и накроет ее снежной лавиной).
Килхмарскую церковь завершили в 1727 году, и была она построена на слезах и поте, да на камнях Ури, так что в зимние месяцы, сколько бы дерева ни сгорало в ее печи, оставалась она такой же холодной, как камни, на которых стояла. Церковь была приземистой и формой чем-то напоминала сапог. Епископу было направлено прошение о священнике, привычном справляться с суровыми условиями и удаленностью прихода. Спустя несколько дней ответ епископа объявился у дверей Килхмара в виде мрачного молодого священника — ученого отца Карла Виктора Фондераха. «И есть он тот самый муж, — писал в своем письме епископ, — что годен для службы в холодных и удаленных горах. Не отсылайте его обратно».
Теперь у церкви был хозяин, дюжина грубых скамей и крыша, почти не пропускавшая дождя, но не было в ней того, что обещал Килхмар. Не было в ней колоколов. И тогда приготовил Килхмар свою повозку, поцеловал жену и сказал, что предпримет он поход в Санкт-Галлен[2], дабы найти величайшего колокольных дел мастера во всем католическом мире. Под патриотические крики прогрохотал он в своей повозке куда-то в сторону севера, и больше его в Ури никто не видел.
Строительство церкви разорило его.
Итак, спустя год после того, как последний кусок черепицы был уложен на крышу, в церковной колокольне, построенной, чтобы стать пристанищем самых прекрасных колоколов вовеки веков, не висело даже коровьего ботала.
Урнерцы народ гордый и находчивый. Насколько трудно отлить колокол? — подумали они. Глиняные формы, немного расплавленного металла, какие-нибудь балки, чтобы подвесить отлитые колокола — и ничего более. Наверное, Господь послал им Килхмара для того, чтобы наставить их на путь праведный.
Господь нуждается в вашем железе, раздался клич. Несите Ему вашу медь и олово.
Затупившиеся лопаты, сломанные мотыги, изъеденные ржавчиной ножи, треснувшие котлы — все бросалось в кучу, выросшую вскоре на Альтдорфской площади, на том самом месте, где три года назад Килхмар скрепил печатью свою клятву. Толпа криками приветствовала каждое новое приношение. Какой-то человек приволок печь, которая должна была хранить его от холода лютой зимой. Благослови ее Господь, забормотала толпа, когда старая вдова швырнула в кучу свои драгоценности. И слезы хлынули из глаз, когда собрались три уважаемых семьи, чтобы пожертвовать три золотые монеты. Десять воловьих упряжек понадобилось, чтобы отвезти металл в деревню.
Селян же, хоть и мало у них было своего металла, чтобы принести в дар, превзойти было невозможно. Поскольку девять дней и ночей стерегли они наспех построенную плавильню, они пожертвовали шнапс, который на рассвете еще оставался у них во флягах, волчью челюсть, полную зубов, украшенный резьбой рог горного козла да пыльный кусок кварца.
У целой дюжины мастеров на всю жизнь остались шрамы от ожогов, полученных в тот самый день, когда разливали они раскаленную добела похлебку в изложницы. Первый колокол получился круглым, как жирная индейка, второй достаточно большим, так что можно было спрятать под ним небольшого козла, а третий, удивительный третий колокол, вышел высотой с человека, и шестнадцать лошадей потребовалось, чтобы поднять его на колокольню.
Вся долина Ури собралась на холме под церковью, чтобы послушать, как колокола зазвонят в первый раз. Когда же все было готово, толпа в благоговении обратила взгляд свой на отца Карла Виктора Фондераха. А он же смотрел на них так, будто были они не более чем стадом овец.
— А благословение, святой отец? — прошептала одна из женщин. — Вы благословите наши колокола?
Он потер виски и встал перед толпой. Он склонил голову, и все сделали то же самое.
— Отец наш Небесный, — пробулькал он сквозь слюни, собравшиеся в глотке. — Благослови колокола сии, которыми Ты — … Он понюхал воздух, оглянулся вокруг, потом посмотрел вниз на свою туфлю, покоившуюся на влажной лепешке коровьего навоза. — Черт бы вас всех побрал, — пробормотал он. Величаво ступая, прошел он сквозь толпу. А они смотрели ему вслед, пока фигура его не исчезла в дверях дома, у которого в окнах были стекла, но на крыше еще не было черепицы.
Потом притихшая толпа повернулась и стала смотреть, как семеро килхмаровых кузенов решительным шагом направились к церкви — один, чтобы звонить в малый колокол, двое, чтобы звонить в колокол средний, и четверо, чтобы звонить в самый большой колокол. И многие в той толпе задержали дыхание, когда на колокольне начали раскачиваться три огромных колокола.
А затем самые громкие и самые прекрасные вовеки веков колокола зазвонили.
Горный воздух содрогнулся. Звон заполнил равнину. И был он пронзительным, как скрип ржавой дверной петли, и грохочущим, как снежная лавина, душераздирающим, как вопль, и успокаивающим, как шепот матери. И вскрикнул тогда каждый, и вздрогнул, как от боли, и зажал руками уши свои. И попятились все. У отца Карла Виктора треснули стекла в оконных рамах. И столь сильно стискивали люди зубы свои, что начинали они крошиться. Лопались барабанные перепонки. У коровы, двух коз, и одной бабы внезапно начались родовые схватки.
А когда затихло эхо в дальних горных вершинах, молчание опустилось на землю. И устремил каждый взор свой на церковь, как будто рухнет она в миг сей. Потом распахнулась дверь, и вывалились из нее толпой килхмаровы кузены, зажимая ладонями загубленные уши. И смотрели они на толпу как воры, спрятавшие в своих чулках сокровище.
И поднялся тогда вопль радостный. И воздели они к небесам руки свои. И затрясли кулаками. И слезы хлынули из глаз многих. Они сделали это! Зазвонили самые громкие вовеки веков колокола!
Не погибло Царство Божие на Земле!
Медленно спускалась толпа вниз по холму. Вдруг завопил кто-то:
— Зазвоните в них еще! — и съежились все, и началось бегство великое, мужчины и женщины, дети, собаки, и коровы — все бежали, оскальзывались, и скатывались вниз с покрытого грязью холма, и прятались за ветхими своими домами, словно пытаясь спастись от снежной лавины. И снова молчание наступило. Выглянули из-за домов головы, уставились глаза на церковь. Да где же теперь их сыщешь, кузенов килхмаровых? По правде сказать, в двух сотнях шагов от церкви вообще никого не было. Ни одного храбреца не нашлось, который зазвонил бы снова в эти колокола.
Или был такой? Шепот поднялся в воздухе. Стали дети пальцами указывать на грязное коричневое пятно, легко поднимавшееся вверх по холму, словно клок сена под дуновением легкого ветерка. Никак человек? Нет, не человек. Ребенок — девчушка малая — в грязных лохмотьях.
А дело в том было, что среди сокровищ многих, кои имелись в этой деревне, была глухая девчонка-дурочка. И странное она имела обыкновение: возьмет да и уставится на селян взглядом пристальным да злобным, как будто знала все тайные грехи, которые люди скрыть пытались; потому-то и обливали ее грязной водой из ведер, когда близко подходила. И пока взбиралась по холму, глаз с колокольни не спускала эта девчонка глухая, потому что она тоже колокола эти слышала, да не ушами безжизненными, а как люди добрые святость ощущают — трепетанием нутра своего.
Все смотрели, как она взбирается вверх по холму, потому что ведомо им было, что это Господь послал к ним эту дурочку, также как Господь послал им Килхмара и камень, чтобы церковь построить, и металл, чтобы колокола отлить.
А она смотрела вверх на колокольню, и казалось, будто хотелось ей взлететь.
— Иди, — шептали они. — Иди.
Но не слышит она их понуждений. Память о колокольном звоне тянет ее к дверям, а потом и внутрь церкви, где ранее ей бывать не доводилось. На полу лежат осколки стекла — выбиты окна — и оставляет она за собой кровавые следы, взбираясь по узким ступеням лестницы в притворе. На первом ярусе колокольни сквозь потолок свешиваются три веревки. Но веревки ей знакомы, и она знает также, что волшебство не в них, что они ведут ее дальше наверх; она продолжает взбираться по лестнице, и открывает головой крышку лаза. Проемы в стенах ничем не огорожены, и выпасть оттуда легко, но зато со всех четырех сторон открываются ей разные виды: налево — голые скалы; прямо перед ней долина, извиваясь, восходит в сторону Италии; направо — покрытый снегами Зустенпасс[3]; а когда пролезает она через лаз на следующий ярус, то, оглянувшись, видит людей, которые копошатся вокруг своих домов, как личинки в куске гниющего мяса.
Она подходит к самому большому из колоколов и заглядывает внутрь, в полумрак. Его тело черное и шершавое. Она протягивает руку и шлепает его. Он не двигается. Она не слышит ни звука. В углу стоят две медные колотушки. Она поднимает одну, и бьет по самому большому колоколу.
Сначала она чувствует это в своем чреве — как будто прикосновение теплой руки. Много-много лет никто не прикасался к ней. Она закрывает глаза и чувствует, как прикосновение это идет вниз, в ее бедра. Проходит по межреберьям. Она вздыхает. Бьет колокол еще раз, изо всех сил, и прикосновение спускается еще ниже, змеей опоясывает спину, поднимается к плечам. Кажется, что оно приподнимает ее, и она купается в этом звуке. Снова и снова бьет она по колоколу, и звук становится все теплее.
Она звонит в средний колокол. Слышит его в своей шее, в руках, и под коленями. Звук растягивает ее, как будто чьи-то теплые руки пытаются ее распластать, вывернуть наизнанку, и она становится выше и шире в своем маленьком теле, больше, чем была раньше.
Маленький колокол слышит она в своей челюсти, в плоти своих ушных раковин, в подъемах своих ступней. Она бьет и бьет колотушкой. Потом берет вторую, чтобы бить по колоколам двумя руками.
Поначалу возликовал люд деревенский, и зарыдал от такого чуда. Эхо колокольного звона разнеслось по всей долине. И закрыли они глаза свои, и упивались славою.
А она все звонила и звонила. Полчаса прошло. Люди перестали слышать друг друга. Чтобы быть услышанным, кричать приходилось; многие просто сели на бревна и прислонились к стенам домов, закрыв руками уши. Свиньи уже были зажарены. В бочки с вином были вставлены краны, но как могли они начать победный пир свой без благословения?
— Тихо! — закричал кто-то.
— Хватит!
— Прекратить!
Стали грозить церкви кулаками.
— Кто-нибудь должен ее остановить!
При этом требовании стыдливо посмотрел каждый на соседа своего. Никто не вышел вперед.
— Приведите ее отца! — завопили. — Пусть он что-нибудь сделает!
Старый Исо Фробен, чья жена за двадцать лет супружеской жизни преподнесла ему вот это вот убогое дитя, вытолкнут был из толпы. Было ему лет пятьдесят, но глаза его запали, и руки висели, как высохшие плети, прямо как у его прадедушки. Он вытер сопливый нос сначала одной рукой, потом другой, и уставился вверх на церковь, как будто предстояло ему убить дракона. Потом подошла к нему женщина, заткнула ему уши шерстью, и обвязала голову грязными портками, завязав штанины на затылке наподобие тюрбана.
Он что-то крикнул стоявшему рядом мужчине, тот исчез в толпе, и через некоторое время появился с кнутом для мулов.
Сколько раз впоследствии доводилось мне слышать эту историю: Храбрый Исо Фробен взбирался на гору, одной рукой придерживая портки, чтобы не сползали на глаза, а в другой руке держал кнут. От тысяч ревностных ног крутая тропа стала такой скользкой от грязи, что он часто падал, скатывался на коленях вниз на пару шагов, но снова вставал на ноги. И когда, наконец, добрался он до церкви, то с головы до пят был вымазан в грязи. А с кнута, когда он им взмахивал, во все стороны летели грязные брызги. И хотя уши его были заткнуты шерстью, а голова обвязана портками наподобие тюрбана, все равно с каждым ударом колокола она дергалась, и от боли стягивало ее, как обручем.
Звук стал еще громче, когда он зашел в церковь и стал подниматься по лестнице, которая, казалось, тряслась под ним. Он закрыл ладонями заткнутые шерстью уши, но это не помогло. В тысячный раз проклял он Бога за то, что тот послал ему такого ребенка.
На первом ярусе колокольни увидел он, что веревки были недвижимы, а колокол все же звонил. Перед глазами его поплыли черные мошки. А когда мир завертелся вокруг него, понял он внезапно: совсем эти колокола не от Бога! Провели их. Дьявольские то были колокола! Происками дьявольскими они были. Ему они церковь построили. Ему колокола отлили!
И уже повернулся было он, чтобы броситься вниз по ступеням, да взглянул наверх, и увидел сквозь щели между половицами, как танцуют крошечные дьявольские ножки.
Осталась еще храбрость в этом скудном высохшем теле. Сжал он кнут в руке своей, аки меч. Вскарабкался по лестнице на колокольню и приоткрыл слегка дверь лаза, чтобы увидеть, что там делается.
Она скакала. Вертелась. Раскачивалась и вытягивалась. Она размахивалась колотушкой и зависала в воздухе во время удара. Казалось, звон колокольный шел изнутри ее, и колокола, по которым она била, были собственным ее черным сердцем. Она гарцевала по самому краю, и чья-то невидимая рука возвращала ее на безопасное место. Тут она зазвонила в самый большой колокол, и как будто гвозди стали забивать в его уши.
Наслаждение, сверкавшее в ее глазах, стало для Исо Фробена последним доказательством: дочь его была одержима дьяволом. Он откинул дверь лаза и пролез в него. Воином был этот старик. До тех пор он хлестал кнутом это дьявольское отродье, пока не упала она без движения на пол. Благовест колокольный перешел в едва слышное звяканье. В деревне, лежавшей далеко внизу, вопль радостный к небесам поднялся. А дочь его лежала и скулила.
Бросил он кнут рядом с ней, и спустился вниз. Не останавливаясь, прошел через ликующий город, и больше никто его в Ури не видел, и стал он, таким образом, второй, после Килхмара, но не последней жертвой этих колоколов.
А в церкви, только после того как совсем стемнело, дитя зашевелилось. Она подняла голову, чтобы убедиться, ушел ли отец, потом села. Одежда ее была в крови. Раны на спине горели огнем. Безжизненные уши не слышали шума попойки, доносившегося из деревни внизу. Она взяла колотушки и открыла дверь лаза.
Завтра, подумала она, глядя на колокола. Завтра я снова буду звонить.
И на следующий день она звонила в них, и то же самое на следующий день, и делала так каждое утро, день и ночь, до самой своей смерти.
Звали это дитя Адельхайд Фробен, и я, Мозес Фробен, сын ее.
[1] Жители долины Ури в Швейцарии.
[2] Санкт-Галлен — город в восточной части Швейцарии, столица одноимённого кантона. Расположен недалеко от Боденского озера на высоте около 700 метров над уровнем моря и является одним из самых высокогорных городов Швейцарии.
[3] Высокогорный перевал в Швейцарских Альпах, соединяющий кантоны Ури и Берн.


