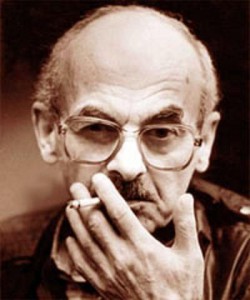Античность в романе Булата Окуджавы «Путешествие дилетантов»
Мария Александрова
«Путешествие дилетантов» – наиболее лиричный и «современный» из всех исторических романов Окуджавы, воистину книга поколения («Я написал роман “Прогулки фрайеров”, // и фрайера меня благодарили…»[1]). Читатели семидесятых, разделяя авторскую «ностальгию по умиротворенным ритмам, по рыцарству» эпохи Пушкина и декабристов[2], смотрели в прошлое глазами «лишнего человека» николаевской поры: «Блеск и независимость александровского поколения не для нас с Вами. Это теперь воспринимается как сказка, как восхитительная идиллия. Знаем лишь понаслышке…»[3]. По мнению С. Чупринина (которое для нас небесспорно), пушкинская эпоха «видится Окуджавой уже как сакральная легенда, а точнее сказать, как своего рода миф, как череда баснословных преданий об отечественной “античности”»[4]. Так или иначе, но если собственная «античность» художником действительно обретена, «что ему Гекуба»? Актуальна ли для современного сознания рефлексия по поводу столь далекого предмета?
Между тем греко-римская древность представлена в романе огромным количеством цитат, имен, реалий, чья смыслопорождающая функция имеет отнюдь не локальный характер. Погруженный в чтение Эсхила и Софокла, Цицерона и Марка Аврелия, Мятлев – воистину лишний в своей эпохе – не имеет представления о Некрасове с его знаменитым «Современником»; отчужденный от «соплеменников», он питает живую привязанность к населяющему его домашнюю крепость «мраморному народцу». Одушевляющие метафоры превращают скульптуры богов и героев в молчаливых участников жизни князя: они то простирают руки навстречу хозяину дома, то отворачиваются в обиде; окружают дружелюбной толпой прекрасную Александрину и вместе с Мятлевым пасуют перед натиском Натальи, «прекрасной конкистадорши». По ходу повествования едва ли не каждый персонаж получает античного двойника, смысл сюжетных положений раскрывается в литературном, мифологическом, историческом контексте. При этом «домашняя» античность Мятлева остается ведущим мотивом, который в итоге служит целям метаописания поэтики «Путешествия…».
На глазах уездного полицейского исправника, явившегося для знакомства со своим поднадзорным, князь «поручил людям вынести из сарая всякие мраморные фигуры, изображающие древнегреческих богов и героев, и расставить их в парке среди кустов. Конечно, выглядело это красиво: белое на зеленом, но что за затея?» /534/. Знаменательно, что в фокусе недоуменного внимания – именно «древний» антураж жизни Мятлева, в то время как затеи, отвечающие духу беспокойного времени Александра II («дилетантская» больница, школа для крестьянских детей), не вызывают у исправника профессионального интереса.
Эпизодическая фигура оказывается функционально сложной. «Эстетический» вопрос, будучи задан в сильной позиции финала, неизбежно переключает внимание на затеи самого автора, которые проясняются на фоне других высказываний Окуджавы по поводу собственных «исторических фантазий».
Автор книги, становясь героем стихотворения о книге («Я пишу исторический роман»), оказывается в том же положении, что и Мятлев. Творческие жесты обоих порождают «стилистические разногласия» с официальными инстанциями, причем оба героя настаивают на своих несвоевременных фантазиях с тем упорством, которое дается только чувством последнего рубежа. Мятлев близок к смерти; поэт, для которого жизнь отождествилась с создаваемым романом, а «время романа» тяготеет к буквальному совпадению с «временем розы»[5], болезненно переживает запрет на слово («И пока еще жива // роза красная в бутылке, // дайте выкрикнуть слова, // что давно лежат в копилке…»[6]). Иначе говоря, в «Путешествии дилетантов» Окуджава не только остраняет образ главного героя, но и моделирует – почти на самой границе романного текста – критическую оценку «из реальности», показывая, как первоначальная эстетическая реакция запускает механизм идеологической бдительности. Конечно, любопытствующий в полицейском мундире – фигура такого рода, что можно все построение истолковать в качестве акта эзоповой речи; тогда и экскурсы в античность из николаевского безвременья сведутся лишь к особо изощренному иносказанию. Отвечает ли подобное прочтение авторскому замыслу?
Установки «бдительных читателей» негласно признавались единственно верными все то время, пока велся подцензурный спор об исторической достоверности «Путешествия…» (полемика, по справедливому замечанию Г.А. Белой, «пошла как бы в обход главного»[7]). При смене эпохи мысль об эзоповом языке «третьей степени» (по формуле Бродского) была легализована: «В самом жанре, избранном им <Окуджавой>, таилась загадка, было “двойное дно”»; жанр исторического романа «был для писателя, конечно же, приемом – таким же приемом, как и многие его “исторические” песни и стихотворения» [8]. Свой тезис Н.Б. Иванова иллюстрирует цитатой («Римская империя времени упадка // сохраняла видимость твердого порядка: // Цезарь был на месте, соратники рядом, // жизнь была прекрасна, судя по докладам…»), не замечая противоречия: в тексте «не для печати» иносказание – мнимое, демонстративно разоблаченное самим поэтом. В позднем интервью Окуджава повторил мысль, которую высказывал на протяжении многих лет, пока его читали «между строк» и друзья и враги: «А я всегда говорил: “Стоит ли пять-шесть лет писать исторический роман, чтобы намекнуть на какие-то недостатки, когда мне легче написать песенку и спеть ее”»[9].
Но автокомментарий, в свою очередь, требует уточнений: не столь прямолинеен и смысл публицистических «песенок», с их лукавым анахронизмом[10] («А критики скажут, что слово “соратник” – не римская деталь, // что эта ошибка всю песенку смысла лишает…»). Хотя спор по поводу «римской детали» – ироническая фикция, для автора важна преемственность «Путешествия…» и «Римской империи…». Об этом можно судить по композиции раздела «Семидесятые» в итоговой книге «Чаепитие на Арбате»; желая подчеркнуть связь текстов, Окуджава нарушил реальную хронологию их создания: «историческая песенка», датируемая благодаря аллюзии на советское вторжение в Афганистан, предшествует стихотворению об историческом романе[11]. Тем самым в романе высвечена античная тема, которая в свое время просто не была замечена критикой, а в «песенке» упразднен злободневный политический код ради обобщения опыта всех империй. «Римская империя…» и «Путешествие…» как взаимодополнительные тексты эксплицируют важнейшие свойства творческой стратегии Окуджавы: если аллюзии – частность, то обобщения «поверх барьеров», сущностные аналогии – фундаментальный принцип. Поэтика масштабных аналогий и опирается на общепонятную античную образность, и преображает этот традиционный язык.
Статус главного героя определен лирической формулой заглавия; не повторяясь в романе буквально[12], она отзывается в контекстуальных синонимах дилетантизма, которые, в свою очередь, составляют контрастные пары с различными обозначениями профессионализма. Во мнении «патриотов» Мятлев предстает то неудачником в делах службы, то дезертиром; состоящие в законном браке считают его «безответственным эгоистом»; у императора-атлета, способного даже недуги побеждать во имя долга, вызывают раздражение «больные и вялые сумасброды», «отщепенцы, уроды… бесполезные, годные лишь на посмешище» /285/; для разночинцев (лекарей, журналистов), убежденно «делающих свое дело», нет ничего логичнее, как объявить Мятлева «поверхностным и легковесным» аристократом /93/; профессиональные «герои», навоевавшись в горах, угрюмо смотрят на «заурядного петербургского белоручку» /369/. Напротив, под сочувственным взглядом Амилахвари дилетантизм предстает как неведение правил чужой игры: вовлеченный в ритуалы департамента, князь Мятлев взирает на «утонченные телодвижения должностного лица с непосредственностью античного пастуха» /187/. Конкретный источник «пастушеского» мотива вряд ли можно установить, но смысл этого неожиданного, на первый взгляд, уподобления проясняется благодаря системе эпиграфов, где первенствует античная цитата[13].
Эпиграф из Цицерона появился только в книжном издании романа, но в творческом сознании Окуджавы диалог «О законах» присутствовал изначально и, по всей видимости, сыграл особую роль в реализации художественно-философской концепции писателя. Не будучи маркирован в тексте романа узнаваемым цитатным словом, трактат великого римлянина многократно отзывается в свободных парафразах, вариациях на тему (сопоставительные наблюдения такого рода могли бы стать основой отдельной работы). Окуджава вряд ли обошел вниманием и вступительную часть диалога, где собеседники побуждают Цицерона стать… историческим писателем[14].
Торжественное слово Марка Тулия Цицерона – «…Ибо природа, заставив все другие живые существа наклоняться к земле, чтобы принимать пищу, одного только человека подняла и побудила его смотреть на небо…» – соседствует с извлечением из «Правил хорошего тона»: «…Когда двигаетесь, старайтесь никого не толкнуть». Следовательно, человек, по велению самой природы обративший глаза к небу, неизбежно обеспокоит кого-нибудь благовоспитанного… Третий эпиграф прямо соотносит эти общие места с коллизиями романа: «Иногда хочется кричать, да хорошее воспитание не позволяет. Лавиния Ладимировская».
Античный пастух, разумеется, не воспитан, а просто верен благой человеческой природе – и наглядно противопоставлен в этом своем качестве другим живым существам, которые пасутся и хищничают окрест. Антитезу Цицерона развивает сквозной в романе «зоологический» мотив; когда с дилетантами сталкиваются другие живые существа, то сутью их хорошего воспитания оказывается дрессировка, целью – обретение человекообразия (в том понимании, которое доступно самим зверообразным). Расподобление дилетантов и других намечено уже в первом эпизоде: «Конногвардеец пыжился и взглядывал угрожающе, так что мне на минуту даже стало как-то не по себе при мысли, что пистолеты заряжены и этот индюк возьмет да и грянет взаправду» /8/. Далее метафоры множатся: «Там <в театре> декольтированные лисицы, медведи в эполетах, бородатые зайцы в тужурках…» /89/; графиня Румянцева разглядывала Мятлева «осуждающими коровьими глазами» /95/; «Понятие “хищницы” не оскорбляло в представлении князя этих дам, ибо это понятие подразумевало природу, и только» /182/, однако близкое знакомство с госпожой Тучковой вызвало оторопь («Вот волчица!.. О, эти нынешние волчицы!» /297/). На самого Мятлева «зоологические» метафоры распространяются в ситуации унижения: когда шеф жандармов с «роскошной седеющей гривой» /157/ впервые призвал князя к ответу, тот озирался «с видом затравленного волка» /158/, после чего граф Орлов вел себя осторожнее («Старый седеющий лев встретил князя легким располагающим рычанием» /215/); император – «орел, на мгновение отвлекшийся от заоблачного полета, вдруг различил перед собою ничтожного воробья» /217/ и великодушно позволил ему жить; опомнившись в крепости от постигшей его катастрофы, Мятлев с негодованием замечает о себе, что «с покорностью суслика» выполняет «нелепые, ошибочные их <орлов и львов> предначертания» /469/. Императорская дрессура определяет облик преданных соратников: «Старый лев по-лисьи выскользнул из кабинета» /286/. Зато грузинскому другу дилетантов лишь кажется, что его очеловечивающие усилия достигли цели: «…светлоглазое хищное лицо петербургского тигра уже укрощенным маячило перед ним» /401/. «Вскормлен на ритуалах» /113/, превращен с помощью розги «в совершенного солдата» /347/ сам Николай Павлович, «медведь всероссийский»; его хорошее воспитание запрещает любой жест человечности как неэффективный, бесполезный для государственного дела, то есть дилетантский: «Вы же знаете, что это не в моих правилах» /110/. Только в предсмертные минуты император видит: окружающие «были еще во власти привычных правил, потому и двигались нелепо, как крабы, и говорили пустые фразы, подчиняясь этим правилам. “Неужели и я так двигался?” – подумал он с отвращением… – Как им не стыдно!» /527/. Для другого персонажа эквивалентом смертного рубежа становится прощание навеки (совпадающее с концом романного текста): на последней странице книги вместо «волчицы» Тучковой – плачущая мама, винящая себя в том, что заставляла дочь сообразовываться «с нравами хищников, которые нас окружают» /543/.
Наконец, Лавиния нарушает «правила хорошего тона» самым настоящим криком, обрушиваясь с ругательствами на песье отродье[15]: «Пан твердит, что он два месяца ищет нас по России! – крикнула она, подбоченившись. – А не свихнулся ли пан поручик, часом? Каждый считает своим долгом, холера, заботиться о нашей нравственности! <…> Они думают, пся крев, что их вонючий мундир дает им право… Он еще смеет, холера, приглашать в свою грязную канцелярию! <…> Два месяца, пся крев, они без нас жить не могут! <…> Где-то я уже видела эту лисью морду!..»[16] /420–421/.
Таким образом, эпиграф из Цицерона манифестирует универсальный смысл конфликта. Главный предмет романов Окуджавы, по точному определению Л.С. Дубшана, «не история, а антропология»[17]. «Человек натуральный»[18], Мятлев сохраняет верность себе, своей вечной сути, не отставая от современности и не порываясь в будущее. Его притяжение к античности есть утоление все той же природной, истинно человеческой потребности: «Читать древних – значит беседовать с ними. Беседа очищает. Я и беседую» /204/. Так, в «Царе Эдипе» Софокла всякое слово обращено лично к нему и вызывает ответную реплику: «…Еще не столь я оскудел умом, чтоб новых благ и пользы домогаться… Прямолинейная честность древних умиляет, но каждое время пользуется своими средствами выражения ее… Зришь ныне свет, но будешь видеть мрак… Скажите, пожалуйста, какая новость» /35–36/. Зато Марка Аврелия он не поддразнивает, попросту соглашаясь с тем, что «каждый стоит столько, сколько стоит то, о чем он хлопочет» /204/. А в диалог Мятлева с Марией Амилахвари незаметно вступает Бион Борисфенит, чья философия оказывается созвучна грузинскому фатализму: «Неумение переносить несчастье – самое великое из несчастий…» /411/.
Беседа ведется без всяких церемоний, накоротке. Понятно, что такая древность не застывает в классическом совершенстве «золотого века». Античность для Мятлева – живая в прямом смысле: «Горстка древних мыслителей и писак отправилась по каменистым дорогам, не сожалея об утратах, в скрипучих колесницах, или же верхом на ослах, или же пешими, вместе с когортами одетых в бронзу солдат, с великими полководцами и путешественниками, с прекрасными гетерами, с женами, грабителями, разбойниками, окруженные стаями чудовищ и бродячих псов, запасшись лепешками и виноградным вином, об руку со своими богами, ни на мгновение не прекращая с ними остроумных и многообещающих дискуссий» /225/. Именно пестрота и динамичность древнего мира (а вовсе не традиционная гармония) оттеняет в романе современность – механистичную в самой оживленности, авторитарную при всей разноголосице мнений. Лейтмотив беседы уточняет препятствия к сближению Мятлева со своей эпохой: «Что же мешает <беседовать>? Пожалуй, то, что древние умеют говорить и о тебе тоже, тогда как нынешние – всегда лишь о себе» /204/.
В нынешних Мятлева смущает узость миропонимания, ожесточенность «правоты» – вне зависимости от конкретного содержания идей (самодержавных, либеральных, новейших демократических в их разночинном варианте), от искренности, энтузиазма или даже героизма их адептов. Когда собеседник древних сталкивается со злободневной идеологичностью, обнаруживается, что нынешние тоже апеллируют к античности, но все равно говорят на чужом Мятлеву языке: «Лучше сражаться среди немногих хороших людей против множества дурных, чем среди множества дурных против немногих хороших! – выкрикнул Колесников. – Это Антисфен, – засмеялся Мятлев. – Вы его знаете? – Я знаю и кое-что еще» /192/. Князь воспринял цитату как реплику, поданную самим Антисфеном, и ответил словами того же мудреца: «Государства гибнут, потому что не умеют отличить хороших людей от дурных…». Намечается остроумная и многообещающая дискуссия; отсюда смех удовольствия и вопрос про него – конкретную личность, чуть ли не близкого знакомого. Напротив, для «передового литератора» Антисфен – не кто, а что (кое-что), годный для декламации текст, готовый к употреблению образец черно-белого списка, который осталось заполнить именами своих и чужих: «Князь, – воскликнул Колесников с недоверием, – не из обскурантов ли вы?..» /192/.
Знаменитая максима Антисфена оглашена в заведении господина Свербеева, между примерками вицмундира, что включает античность в систему костюмно-театральных мотивов: «Широкое румяное лицо господина Колесникова выглядывало из-за суконной ширмы наподобие маски, и из круглого рта сыпались хриплые и печальные фразы затверженной роли. Господин Свербеев то исчезал, то появлялся, будто приглядываясь к им сочиненной пьесе, примеряя ее так и эдак» /193/. Под выкрики начитанного паяца хозяин салона «притащил штуку темно-зеленого сукна, лихо швырнул ее в кресло, разматывая, и свободный конец бросил князю через плечо, словно наряжал его в тогу…» /192/ (выступая в другой своей ипостаси, Свербеев опять-таки неприметно режиссировал: водил «конкистадоршу» по дому князя, «средь мраморных фигур, терпеливо разъясняя их достоинства» /164/). Группировка участников эпизода демонстрирует, что роли, облагороженные в античном духе и предлагаемые князю с разных сторон, сходны между собою, да и пьеса, в сущности, одна.
Исследуя поведение марионеток, главное внимание Окуджава сосредоточивает на императоре, который мнит себя наиболее свободным. Но авторство пьесы, приписанное ничтожному шпиону-портному, остается в силе. Оно раскрывается далее как «искусство кройки и шитья» особого рода.
Николай рядится Цезарем-триумфатором. Окуджава рисует античную феерию без привычных разоблачительных выпадов против «империи фасадов и декораций» (избегая соответственно и лежащей на поверхности аналогии с империей советской: «…жизнь была прекрасна, судя по докладам»). Его мысль занимает иное: с глубокой древности едва ли не самым действенным средством обольщения малых сих является ритуальная красота власти, которая наглядно выражает красоту идеологии, претендующей быть спасительной для всех; отсюда «доведенная до совершенства основная идея маскарада» – «Цезарь, призванный осчастливить, очистить, возвысить свой горький, мятежный, подобострастный и великий народ» /345/. Между тем «творческие» претензии самого императора (как то: регламентация цвета исподнего у чиновников) лишь оттеняют своей мелочностью полет артистической фантазии. Смена обличий, творимых для Николая вдохновенными руками (вчера – великодушный Цезарь, сегодня – благородный рыцарь), подчеркивает неразлучность исторической пары «художник и властитель». Придворный декоратор, «изрядно растолстевший Ванька Шумский» – своеобразный двойник величественного монарха, этого «стареющего гиганта с мраморной кожей» /218/. Отраженный в зеркале вместе с императором перед очередным эффектным выходом, художник утверждает своим искусством «незыблемость цезаревых установлений» /346/, превращает костюмированный праздник в событие государственного ранга.
Историческая память и живет ровно столько, сколько длится художественный эффект: один из наиболее удачных летних маскарадов в Царскосельском парке «был покуда на памяти у всех… Когда древнеримские колесницы, сверкающие позолотой, медленно влекомые тяжелыми конями, утопающими под ковровыми попонами, поплыли через парк, <…> скопища верноподданных почти расстилались на мягкой вечерней английской траве в безвольных позах; <…> широко распахнутые глаза ловили каждое движение Цезаря… Голубая туника Цезаря, возвышающегося в первой колеснице, казалась продолжением небес; венок из благородного лавра обрамлял его высокое чело; пергаментный свиток в руке знаменовал надежды, ради которых склонялись ниц его счастливые дети. Николай Павлович хорошо помнил этот вечер. Ощущение подлинности происходящего не покидало его на протяжении всего пути» /345/.
В смысловое поле цезарианского мотива (туника небесного цвета) попадают на страницах романа и «мундиры голубые» как неотъемлемая примета имперского маскарада. Узнаваемый лермонтовский образ насыщается новой символикой: это близость к небожителю, знак превосходства над толпами верноподданных, облаченных в скромные зеленые мундиры (или распростертых на зеленой траве). Впрочем, идеологическое и эстетическое пространство империи едино снизу доверху; всякому надлежит стремиться поближе к небесам власти. Глубоко чувствует долг и достойно – профессионально! – исполняет его опять-таки художник. Придворный гений, созидающий облик Цезаря, повторяется в господине Свербееве, который, драпируя Мятлева в тогу темно-зеленого сукна, «воображал, фантазировал, и по его тоскливому лицу пробегали волны вдохновения и страсти» /190/. В стенах мрачного заведения на Гороховой со светло-голубой вывеской процветает «античность» того же свойства, что и во дворце. По принципу нисходящей и восходящей градации организована в романе целая система мотивов; с ней коррелируют парные образы, которые также выражают мысль об одинаковой сущности различного по виду. Отсутствие альтернативы в благоустроенном пространстве империи становится наглядным.
Так, Мятлеву предоставлен сомнительный выбор между обязательным и дозволенным. Обязательно «прекрасное и возвышенное» («порядочный человек не может не испытывать наслаждения от одного сознания своей причастности к государственному кормилу» /188/), а на долю всяких бескрылых существ оставлено нечто скромное, посильное. Дозволено «горацианское» уединение в деревне, «а там еще хуже» /141/. Мятлев иронически утрирует обаяние сельской идиллии: «[Н]айти какой-нибудь прелестный уголок, где никого нету… Жить там, собирать гербарии… О, где вы, прелестные уголки, куда не ступала нога человека и где можно собирать гербарии?» /53/. Прелестный уголок отсылает ко второй главе «Евгения Онегина» («Деревня, где скучал Евгений, // Была прелестный уголок…»), к иронически обыгранному латинскому эпиграфу; пушкинская же прозаизация античной идиллии в главе шестой («Живет, как истинный мудрец, // Капусту садит, как Гораций»), вероятно, подсказала Окуджаве обратно-зеркальный прием: нарочито изысканное собирание гербариев заменяет сельские труды философа.
Участь «друга невинных наслаждений» развенчивается прежде всего эпизодом встречи Мятлева с двойником-антиподом[19] – гостеприимным помещиком Авросимовым, героем первого романа Окуджавы. Бедный Авросимов после непосильного для него испытания был великодушно отпущен из Петербурга в малый мир, где «запах липового меда, грибов, опадающей антоновки» быстро восторжествовал над «петербургской зимней болезнью», где «не омраченная ничем, в разгаре осени свершилась свадьба» бывшего писаря Следственного комитета, и «так все у него устроилось, так сложилось ко всеобщему ликованию. Бог с ним совсем»[20]. В «Путешествии…» ирония по поводу спасительной идиллии переходит в сарказм. Вдовый, одинокий, косноязычный, почти одичавший в своем глухом углу, где по-прежнему всё райски благоухает «липовым медом и яблоками», Авросимов источает страх и тоску. И в глазах у картинных «поселян» с их «размашистыми поклонами» «была та же самая голубая тоска, да и небо, оказывается, было таким же». Невинный цвет простодушных глаз и деревенского неба сквозит голубизной цезаревой туники и жандармского мундира, а на картине в деревенском кабинете Авросимова изображен государь, «пронзающий даль громадным вещим голубым зрачком» /321/.
«Неведомый сельский безумец» продолжает в романе ряд вдохновенных художников. Благодаря автору картины немотствующий Авросимов овладел языком «прекрасного и возвышенного», сумел воспеть собственное унижение, изъявить благодарность за дозволенное свыше прозябание среди «бирюзовых глянцевых полей» и всяческого изобилия. Благородный античный декорум травестирован броской лубочной мазней, но пафос все тот же: «Высокопарный сюжет захватывал дух и приводил в трепет. Слева, на фоне аккуратных лиловых гор и ядовито-зеленых нив, оживляемых там и сям кронами фантастических смоковниц, высился государь Николай Павлович <…> в измайловском мундире и в совершенно невероятной какой-то тунике, пронзающий даль громадным вещим голубым зрачком; справа же подобострастно преклонил перед ним колена <…> рыжеволосый Иван Евдокимович <…>, осчастливленный, сияющий таким же голубым зрачком, выражающим благодарность, а может, и растерянность. Белая, непомерной длины рука императора покоилась на рыжих волосах верноподданного… Краски были плотны и пронзительны, отчего создавалась видимость фантастического правдоподобия…» /320–321/. Фантастическая параллель к зловещей подлинности римского маскарада передает заразительный дух языческой кумирни, общий для всех времен, народов и культур. Та образность, которая в позднесоветскую эпоху могла восприниматься как иносказательная, «вынужденная», на деле проблематизировала ситуацию: историческая ретроспектива не оставляет места иллюзиям.
Собственными прозрениями автор поделился с героем романа. Любимые древние авторы Мятлева – «великие скептики», чей опыт оказался пророческим. В античности заключены прообразы современности, те смыслы, которые неизбежно проступают в новой ситуации: «…Некий спасавшийся от преследования беглец был схвачен людьми, которые искали не его, а другого. Увидев, что поймали не того, кого ищут, они сжалились над ним и позволили ему бежать в лес. Однако его местонахождение стало известно истинным преследователям, и они устремились за ним. Тогда беглец в отчаянии бросился к первым и воскликнул: “Лучше уж убейте меня вы, раз вы сжалились надо мною, а вам за это будет награда.” Так, умирая, он отплатил им за сострадание… Не могу отказать себе в удовольствии выписать этот эпизод из Аппиана, так пророчески предугадавшего нашу судьбу, хотя мы проживаем спустя восемнадцать столетий. Я читаю это с содроганием, но не представляю, как можно поступить иначе…» /185/.
Эпизод из «Гражданских войн» Аппиана преломляется затем в отношениях беглеца с двумя «голубыми мундирами» – фон Мюфлингом, который, слегка застыдившись, уклоняется от почетного права лично арестовать влюбленных дилетантов, и поручиком Катакази, охотно доводящим акцию поимки до финала. «Гуманизм» фон Мюфлинга есть карикатура на великодушие античного предшественника, потому и не дано героям утешения сдаться достойнейшему.
Вечная коллизия, трагическая в первоисточнике, разыгрывается заново в сниженной стилистике, что не меняет сущности: человек «ничтожен перед лицом своей судьбы, посреди трагедий, притворяющихся водевилями» /424/. Эта формула освещает всю систему современных преломлений античности в романе. Когда император насильственно соединяет Мятлева с графиней Румянцевой, беспомощный князь успевает подумать, что жених и невеста «всего-навсего разыгрывают Лукиана, моля бога о самом противоположном, обещая в то же время принести одинаковые жертвы…» /223/. Камердинер Афанасий встречает гостей Мятлева «с легкой улыбкой Одиссея на круглом, исполненном достоинства лице» /77/ (сравнение развивается в пародийную одиссею персонажа – многолетний кружной путь «на Итаку», в Михайловку). Сестра князя постоянно именуется богоподобной (иронический парафраз богоравных и боговидных героев Гомера), а за свои мрачные пророчества получает прозвище Кассандра. Фон Мюфлинг пускается в погоню за влюбленными с убеждением, что «выполнять капризы богов не унизительно» /308/; сопровождает его могучий лакей Гектор, неизменно «готовый на подвиг» /335/.
Ближайший («сегодняшний») смысл путешествия-бегства выражен строкой Лермонтова: «Быть может, за хребтом Кавказа сокроюсь…». Ключ ко второму плану сюжета – имя героини романа, унаследованное от реального прототипа, Лавинии Жадимировской. Окуджава волен был осмыслить его на свой лад, поскольку ближайшие источники ничего в этом плане не подсказывали. Так, для П.Е. Щеголева, автора очерка «Любовь в равелине», не была актуальна выразительность редкого в быту имени, ощутимая его «инородность». Интересно, в литературе 1840-х гг. Лавиния – имя употребительное; среди условно-поэтических женских имен оно предстает как высокое, но уже почти свободное от исторических и мифологических ассоциаций, даже современное – после одноименной повести Жорж Санд. В таком качестве оно вошло в лирику Аполлона Григорьева, к примеру. Осмысление античного имени, по всей видимости, произошло на раннем этапе творческой истории «Путешествия…». О роли этого импульса можно судить по эпизоду разоблачения детской мистификации героини: « – Как же ваше подлинное имя? – Лавиния… – Лавиния – жена Энея!» /138/.
Сама неожиданность превращения господина ван Шонховена соответствует духу иных парадоксальных сближений, открывающих античные прообразы повсюду. При этом цитация осуществляется даже на уровне приема: «узнавание истины» направляет весь дальнейший ход событий, как бы ни отклонялся жизненный путь героев от предначертанного свыше. Истина открывается сразу и сполна самой Лавинии (она настойчиво говорит о высших силах) и постепенно – Мятлеву, которому приходится, таким образом, исполнить роль прославленного троянца. Подобием Энея делает его целый ряд травестийных сюжетных параллелей с Гомером и Вергилием. Ветхую деревянную крепость князя, населенную мраморным народцем, осаждают не «шлемоблещущие воины», а шпионы гнусного вида, и рушится петербургская Троя сама собой после бегства хозяина дома. В перелицованный троянский сюжет ретроспективно включается покойная княгиня Мятлева – как разлученная с Энеем волею богов Креуса; ее замещает в этом качестве гротескный двойник: дерзкая горничная Аглая, посягавшая и на камердинера, и на князя, погребена под развалинами. Грандиозная война из-за женщины, которую ведут герои у Вергилия (а до него – у Гомера), повторяется в любовном соперничестве князя с царем, которое всколыхнуло империю «от финских хладных скал до пламенной Колхиды». Поединку Энея и Турна за руку царской дочери пародийно соответствует сначала бескровная дуэль Мятлева со случайным, «подменным» противником (в то время как хочется вызвать самого Николая Павловича для «последнего единоборства» /279/), затем – странная потребность досадить «обладателю золотого оружия», любвеобильному Мишке Бергу («Он ожидал взрыва, но хмельной капитан, покорно выслушав все это, внезапно улыбнулся…» /407/). Между тем Амилахвари прозревает в дилетантских поступках друга готовность «возвыситься над самим собой и предстать перед предметом своей любви не в облачении пилигрима, а в бронзовых латах завоевателя» /259–260/.
Логика своеобразного перепева «Энеиды» очевидна: пародия в данном случае гуманизирует свой объект, приближает его к миру авторских ценностей. Так, совершенно ясно, почему Мятлев не совершает в честь Лавинии подвигов кровавых, и как согласуется беззащитность самого завоевателя с его героическим пафосом. Важнейшим поводом для рефлексии Окуджавы стала любовная тема у Вергилия – «едва ли не самая человечная во всей античной поэзии»[21]. Если поэтические пророчества о величии Рима сбываются «наоборот» в сюжетной линии русского Цезаря, с ее многозначительно-грозной развязкой – крымской катастрофой, то любовные коллизии выступают как вечные – вечно повторяющиеся – ситуации.
Новая Энеида постепенно ассимилирует античные мотивы разного происхождения. Благодаря цитате из «Орестеи» Эсхила («Пленницу эту в дом введи с приветом… В ярме же рабском зложелателен узник…» /77/) вступление обреченной троянской царевны во дворец Агамемнона проецируется на судьбу Александрины, которая разучилась уповать на лучшее. Но поскольку имя Кассандра уже отдано сестре героя, князь нарекает гостью Эрифилой, что стала орудием и жертвой в непостижимой для смертного человека распре олимпийцев. Переживая двусмысленность положения «спасителя», Мятлев бормочет стихи из трагедии Еврипида «Ион» («Сомнением, о мать, смутился ум…» /78/, «Не знал отец, что дочь его царевна от Феба носит бремя…» /79/). Желая ввести, наконец, свою пленницу в дом, князь настигает Александрину в толпе мраморных соплеменников «в тот момент, когда легкая стрела беззвучно вошла в сердце Минотавра и он изогнулся от боли, повернувшись к людям пустыми страдающими глазницами, словно предупреждая, что обольщения не менее опасны, чем смертельные раны, наносимые судьбой» /77/. Обольщения порождают видения наяву: «Там, где кончалась дорожка и поднимались кусты роз, вновь начиналось таинственное движение, мелькание, воздевание рук, молчаливое действие, живые картины, где белые хитоны перемежались с пурпурными гиматиями во славу любви, и беззвучные хоровые песнопения проникали в самую душу, и не было ни судьбы, ни поражения, ни зловещих предзнаменований…» /97/.
Вергилиевы мотивы сообщают двум любовным сюжетам «Путешествия…» не только преемственность, но и особого рода тождество.
Подобно Энею и Дидоне, князь и Александрина соединяются благодаря внезапной буре (контаминация двух эпизодов «Энеиды» – прерванного морского странствия и охоты), о гневе богов сообщает их вестница – богоподобная Кассандра. Нравственная коллизия «Энеиды» в рецепции Окуджавы становится еще более острой, нежели у гуманного Вергилия: даже уступая «неумолимому року» или «прихоти богов», человек не вправе чувствовать себя безвинным. Архетип Дидоны реализован в романе мотивом невольного предательства мужчины и самоубийства женщины. Как благочестивый Эней оставляет царицу Карфагена из покорности Юпитеру, так и благородный князь не в силах вечно сопротивляться «бездушному неотвязному року» («Казалась ли ему эта борьба напрасной? Не знаю…» /87/); как Эней, уже ступивший на землю италийскую, терзаем совестью при встрече с тенью Дидоны в подземном царстве, так и Мятлев, почти достигнув цели своих «завоеваний», обнаруживает призрачные следы Александрины, словно спускается в Аид прошлого. Наконец, портретный лейтмотив – «серые невозможные глаза», низкий голос, жест негодования и отчаяния – утверждает Александрину в статусе двойника самой Лавинии[22], ради которой пилигрим и становится завоевателем в бронзовых латах. Мятлев смотрит в зеркало былой вины, вопрошая и заклиная себя: «Ужели я могу отречься?.. не предайте с изяществом» /296/.
Одна из попыток Мятлева уклониться от миссии Энея – фантазирование о своем «божественном выборе» как счастливой доле Пигмалиона, чей подвиг во имя любви был сугубо мирным, творческим и молитвенным: «Ее темно-русые волосы, скрученные на темени узлом, придавали ее облику сходство с той самой изваянной из мрамора и оживленной стараниями гения дамой, на которую молились одновременно и отцы и дети»; очередная античная параллель является также автоцитатой: «…и муравей создал себе богиню // по образу и духу своему»[23]. Отказываясь быть кумиром, «богиней» («Какое бремя вы возлагаете на мои плечи… Это уже свыше моих сил. Опомнитесь…» /352/), Лавиния возвращает князя к той реальности, в которой он обречен вооружаться и бороться: « – Где ваш лефоше?.. Места глухие, князь, того и гляди…» /354/. Завоеватель в бронзовых латах тут же воплощается как «бледный разбойник в грязной сорочке из тонкого голландского полотна с новехоньким пистолетом в руке» /354/.
Перепев «Энеиды» сопровождается пространственно-временной инверсией классического сюжета. Герои Окуджавы, в отличие от вергилиевых Энея и Лавинии, соединяются в начале пути и устремляются прочь из имперского Петербурга-Рима в древнюю Грузию-Колхиду, как бы вспять по реке времен; но образ далекой страны все же кодирован превращением чужбины в новую родину. Грузия являет собою не просто мечту всех «северных страдальцев» (« – Здесь Пушкин проезжал, – сказал Мятлев благоговейно… – Здесь многие проезжали…» /387/); это еще и единственное доступное героям романа «окно в античность».
В российской поэтической традиции классический колорит присущ образу Крыма, но неклассическая – «пестрая» – античность Окуджавы закономерно проецируется на закавказский край. Амиран Амилахвари, воодушевляя князя на побег рассказами о родине, описывает «море, подступающее к этой земле, <…> переполненное жизнью, помнящее Язона и переливающееся чешуйками золотого руна» /258/, беспечных обитателей Тифлиса, «застывших в античных позах», «словно изображенных на холсте» /259/ – изображенных для вечности, поскольку именно здесь человеку дано «осознать себя бессмертным» /258/. Пластический образ далекого мира перекликается с античным окружением Мятлева: в полумраке старого петербургского дома «колыхались бессловесные мраморные изваяния, сплетаясь, падая, единоборствуя, исповедуясь друг перед другом на языке жестов» /77/. Чувство вечности, с которым живут «за хребтом Кавказа», становится главной мотивировкой грузинской отзывчивости; Мятлев, взывающий к «мраморному народу» («О, этот мир, не требующий твоих страданий, не жаждущий твоей покорности, не настаивающий на твоем рабстве! О, этот мир, исполненный благодати и доверия! Отзовись…» /77/), нашел отклик у тех, кого «ощущение собственного бессмертия делает <…> сильным, спокойным и неторопливым» /258/.
Грузинский друг дилетантов признает: Тифлис в сравнении с Петербургом – «дальняя окраина, но это ведь еще откуда смотреть, ибо мы – средоточие такой древней культуры, сплетение таких разноплеменных богатств, что можем кое с кем и посоперничать…» /386/. Эффект «перевернутой» точки зрения согласуется по смыслу с лейтмотивом «неправильности», «нарушенного порядка», духовного непокорства. Семантика глухой провинции у моря уточняется в «Путешествии дилетантов» благодаря заглавной метафоре дилетантизма / маргинальности. В мире петербургского Цезаря Мятлев изначально был подозрителен своей «странной манерой ускользать, растворяться, не дожидаться конца, примащиваться где-то сбоку» /111/. Таким же ускользающим от имперского понимания объектом оказывается Грузия – с ее извечным окраинным положением, бурным прошлым и неупорядоченным настоящим, когда чиновники и разбойники мирно раскланиваются на рыночной площади, а постороннему невозможно различить грузин и турок, старинных врагов. Если дилетант Мятлев при вступлении в петербургский департамент разглядывал окружающих «с непосредственностью античного пастуха», то фон Мюфлинг, угодивший на задворки империи, судит о закавказской «античности» с точки зрения департамента: «Не верь никому, кто будет тебе с восторгом описывать местные красоты, храмы и памятники прошлого, грациозных грузинок и пиршества по древнеэллинскому образцу. <…> Будь я на месте Мятлева, я бежал бы через Финляндию в Европу… Сущий дурак!» /395/. Двойной приговор – «античной» Грузии и Мятлеву – закрепляет их новообретенное родство, но также предвещает катастрофу.
Превращение идиллии в утопию, в «несуществующее место», совершается как утрата смысла, локализованного поначалу именно здесь, «за хребтом Кавказа». Отрезвляющую функцию выполняют обмолвки рассказчика («…даже я сам впоследствии, говоря о Грузии, воображал себе черт знает что, а не истинную свою родину» /258/). Затем Мятлев и Лавиния в гостеприимном доме Амилахвари пробуждаются от грузинских снов к «северной» реальности («…и просыпаясь по ночам, я слышу, как течет Нева» /411/). В итоге ход событий уничтожает спасительную дистанцию («И от Цезаря далеко, и от вьюги…»), путает семантику имперского центра и «античной» окраины. Наличная реальность остается прежней – безальтернативной, и полюбившаяся героям Грузия, как замечает Я.А. Гордин, оказывается самым горьким из разочарований[24].
Насмешка «высших сил» над упованиями дилетантов определяет маршруты их путешествий после разлуки. Все той же дорогой из Петербурга на Кавказ везут осужденного Мятлева, чтобы Эней, теперь подневольный завоеватель, отбывал солдатчину вблизи новой своей родины. Зато господин Ладимировский увозит Лавинию на неаполитанское побережье, в те благословенные края, где создавалась «Энеида» и погребен Вергилий.
Князю остается «лишь украдкой грезить о теплых бирюзовых нешумных волнах Неаполитанского залива…» /515/, однако при первой возможности он отвечает саркастической судьбе по-своему: отпущенный наконец-то в костромскую деревню дожидаться «натурального конца», Мятлев поселяет в запущенном парке мраморных друзей. Это не только красивый фон для позднего воссоединения героев, но также внесюжетная мотивировка финала. Дилетанты упрямо творят мир «по образу и духу своему», стремятся «занять натуральное положение» /503/.
Результат их созидательных усилий контрастно соотнесен (благодаря максимально приближенной к эпилогу последней «Вставной главе») с крушением исторического дела Цезаря. Таким образом, плен истории дано преодолеть самым слабым и беспомощным. Хотя идея «вечного дома» неосуществима даже в присутствии бессмертных соплеменников жены Энея («Лавиния Ладимировская, похоронив Мятлева, навсегда покинула Россию»), вечность все-таки завоевана: «…господин ван Шонховен в потертом армячке, по-видимому, продолжает пересекать заснеженные пространства, оставляя нам в назидание свои следы» /539/.
В контексте «Путешествия дилетантов» античность проявляет необычайную генеративность, выходя за собственные тематические границы и сопрягая далекое. Но особенно показательна для поэтики Окуджавы структура финального (сквозного) образа. Лейтмотив «вечного возвращения» имеет двуединый источник. Рассуждение Цицерона, послужившее эпиграфом, в оригинале продолжено так: «Ибо она <природа>, заставив все другие живые существа наклоняться к земле, чтобы принимать пищу, одного только человека подняла и побудила его смотреть на небо, как бы на родное для него место и его прежнюю обитель…»[25]. Когда Лавиния вторит «Песенке о дальней дороге»: «А не пора ли воспарить, брат?» /375/, когда свидетели ее порыва к Мятлеву «с ужасом и благоговением» всматриваются «в пространство неба» /502/, а последняя метафора превращает героиню в крылатый призрак, Окуджава перелагает античную мудрость на собственный поэтический язык. Формула узнавания «своего» в заветах двухтысячелетней давности вложена в уста Мятлева: «…древние умеют говорить и о тебе тоже» /204/.
Роман повествует о природности высших человеческих стремлений. Однако в том же смысловом пространстве отчетливо поставлен вопрос о природе как едином источнике добра и зла, отчего «“природа” не противостоит “истории”, но ее порождает»[26]. Отсюда – перспектива развития античной темы в «Свидании с Бонапартом».
Новый филологический вестник. М., 2009. № 4 (11). С. 34–49
[1] Окуджава Б.Ш. Чаепитие на Арбате. М., 1996. С. 380.
[2] «Минувшее меня объемлет живо…» / Беседу вел Ю. Болдырев // Вопросы литературы. 1980. № 8. С. 145.
[3] Окуджава Б.Ш. Путешествие дилетантов. М., 1980. С. 140. Далее текст приводится по этому изданию с указанием номера страницы после цитаты (в косых скобках). Курсив здесь и далее принадлежит автору статьи.
[4] Чупринин С. На ясный огонь // Новый мир. 1985. № 6. С. 260.
[5] См. об этом подробнее: Александрова М.А. Поэт и роза: к теме творчества в лирике Булата Окуджавы // Голос надежды: Новое о Булате. Вып. 4 / Сост. А.Е. Крылов. М., 2007. С. 325–328.
[6] Окуджава Б.Ш. Чаепитие на Арбате. С. 295–296.
[7] Белая Г.А. Литература в зеркале критики. Современные проблемы. М., 1986. С. 207.
[8] Иванова Н. Смена языка // Знамя. 1989. № 11. С. 227.
[9] Окуджава Б.Ш. Мы из школы XX века / Беседовала Л. Михайлова // Литературное обозрение. 1994. № 5–6. С. 16.
[10] Новиков Вл. Булат Окуджава // Русская речь. 1989. № 3. С. 65.
[11] Окуджава Б.Ш. Чаепитие на Арбате. С. 290–291, 295–296.
[12] Единственный случай – наречение «бездарным дилетантом» /474/ одного «из несчастных» (разжалованных), безыменного двойника Мятлева.
[13] Интерпретацию эпиграфов к роману «Путешествие дилетантов» см. также в: Бойко С. О роли эпиграфов в романах Булата Окуджавы // Поэтика заглавия: Сб. науч. тр. М.; Тверь, 2005. С. 324–325; Назаренко М. «Прогулки фрайеров»: историческая тетралогия Булата Окуджавы как целое (к постановке проблемы) // Голос надежды: Новое о Булате. Вып. 5 / Сост. А.Е. Крылов. М., 2008. С. 415–416.
[14] Цицерон. Диалоги / Изд. подгот. И.Н. Веселовский и др. М., 1966 (Лит. памятники). С. 90–91. Можно представить себе, с каким чувством Окуджава, не раз обвиненный в «искажениях» славного прошлого, читал такие, например, рассуждения о поэме Цицерона «Марий» в диалоге «О законах»: «АТТИК. Но ведь в “Марии” многое вызывает вопрос, вымышлено ли оно или действительно произошло, а некоторые люди – так как это относится к недавнему прошлому… – хотят узнать правду именно от тебя. – МАРК. Да и я, клянусь Геркулесом, не хочу прослыть лжецом. Однако кое-кто, мой дорогой Тит, поступает неразумно; это те, кто в том вопросе требует истины от меня не как от поэта, а как от свидетеля…» (Там же. С. 90).
[15] Ср.: «Покуда я бегу к лесу по траве… за моей спиной все время слышны приближающиеся голоса и лай псов» /185/.
[16] Этим «зоологическим» уподоблениям противопоставлен другой «природный» образный ряд, который подытожен формулой несовместимости, «разноплеменности»: «Нас нельзя преследовать – мы из других лесов, мы не чужие, мы иные» /485/. Так, кузнечик – самая близкая родня дилетантам: «…острые беспомощные ключицы, и два острых локотка были на виду, хотя она и прижимала их к телу» /235/; «Кузнечика знакомое лицо вдруг выросло среди травы… среди цветов… Два острых локотка отставлены манерно…» /499/. Александрина – «перелетная птица» /98/, князь «заслонил ее от ветра, как серый аист своими нервными крыльями упавшую с неба аистиху…» /79/, и собственное спасение он мыслит воздушным: «Пока лень двигаться, но в критическую минуту я выпорхну в окно, подобно мотыльку, и улечу…» /185–186/. Ср. также уподобление Александрины «гибнущей оленихе» и ее ночной монолог в главе 22-й /98, 99/.
[17] Дубшан Л.С. [Рецензия] Б. Окуджава. Избранные произведения в двух томах. М.: Современник, 1989 // Нева. 1990. № 9. С. 193.
[18] Любимое самоопределение автора.
[19] Автор подчеркивал соотнесенность всех своих героев: «…А третью вещь пишу не о “маленьком человеке”, а о представителе русской аристократии, но, думаю, по сути они все одинаковы. Он тоже “маленький человек”» (Окуджава Б. Далекое и близкое / Интервью вела И. Ришина // Литературная газета. 1976. 17 ноября. С. 3.)
[20] Окуджава Б.Ш. Избранные произведения: В 2 т. Т. 1. М., 1989. С. 264.
[21] Гаспаров М.Л. Вергилий, или поэт будущего // Гаспаров М.Л. Избранные труды. Т. I. М., 1997. С. 132.
[22] См. также диалог Адели и доктора: «“Голубая кровь, голубая кровь…” – сказала Адель сварливо, – вот у княгинюшки и впрямь голубая была: ее под замком не удержишь… – Это какая же княгинюшка, – ехидно спросил доктор, – та или эта?» /515/.
[23] Окуджава Б.Ш. Чаепитие на Арбате. С. 75.
[24] Гордин Я.А. Любовь и драма Мятлева // Литературная газета. 1979. 1 января. С. 4.
[25] Цицерон. Диалоги. С. 97.
[26] Дубшан Л.С. Указ. соч. С. 193.
|
|