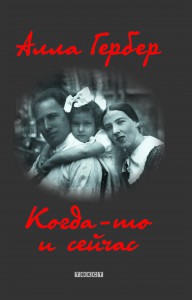Алла Гербер «Когда-то и сейчас»
В СТЕНАХ И ЗА СТЕНАМИ
Алле Ефремовне Гербер —
Лев Аннинский
Мы были такие счастливые.
А время было таким трудным…
А. Гербер
Подняв глаза от надгробий, она увидела человека, который предложил ей помолиться за упокой ее родителей. Она попыталась объяснить ему, что мама и папа были атеисты, нормальные советские атеисты. Он понял ее сразу. Она его — много позже, когда стала писать о своих родителях прощальный очерк и вдруг догадалась, что это молитва. Ни с какого бока религия не подступала к ней, послевоенной комсомолке — школьнице, студентке юрфака, журналистке-шестидесятнице, обретшей себя в Оттепель. Но в какой-то момент сквозь воспоминания детства и юности (а время было такое трудное) проступило запредельное. И дед-мельник с тяжелыми руками, когда-то определивший своим детям пути: в технику, в юриспруденцию, в медицину и экономику (но не в журналистику!), вдруг напомнил ей (и нам, читателям) праотца, намечающего маршруты караванам. И здоровенная, странная «ваза-лодка», подаренная прабабушкой на мамину свадьбу и потому оберегаемая в последующих поколениях, окликает в памяти времена, куда более древние, чем прабабушкины, то есть ассоциируется с Ковчегом Завета. И традиционные гренки, которые бабушка на скорую руку
сооружает, чтобы накормить голодную студенческую
компанию, вваливающуюся в дом без предупреждения
(и, естественно, без приглашения), — тоже напомина-
ют что-то заветное, щедро и негаданно излившееся на
народ, пересекающий пустыню, — можно назвать это
манной с неба.
Но религиозный контекст для очерка Аллы Гербер
все-таки отдает умозрением (чтобы не поминать задний ум); непосредственно же все вполне вписывается в психологию послевоенных девочек и мальчиков, никакого старого завета не помнивших, строивших в своих мечтах новую жизнь под новым небом. Это было
поколение людей, рожденных, чтобы жить в преображенном человечестве, поколение, живым перебравшееся через Великую Отечественную войну, — последнее поколение русских идеалистов, не знавшее, естественно, что оно последнее. Какие уж там родители! — это
были дети Земшарного Человечества, не меньше.
И счет отцам выстраивался у них вовсе не на том базисе,
который Алла Гербер извлекает из словаря однокашников своего сына («Шнурки — в стакане?» — «Нет,
слиняли»: о, долгожданная свобода, когда без родите-
лей можно делать что угодно!). Это все изобрели уже
дети безвременья, будущие поглотители пепси. А их
отцы-матери, «шестидесятники», из среды коих вышла
Алла Гербер, задавали на послевоенных руинах своим
отцам совсем другие вопросы. Почему коммунизм все
еще не построен? Почему зла еще так много в людях?
Почему вы не безупречны?
Разумеется, и «шестидесятники» были разные. Были
комсомольские ригористы, и были отчаянные жизнелюбы, которых ригористы изводили сарказмами: «Сбацаем фоксик, Аллочка!»
Слава Богу, Аллочка сбацала. Пробилась сквозь общую дурь. И сложила такой реквием отцам, на какой
те вряд ли могли надеяться по их чевенгурскому опыту. Гимн счастливым людям, только много лет спустя
понявшим, в каком котловане они сидели, готовясь к
штурму неба. Как отделить тут счастье от беды, как нащупать грани между несчастьем и везением? Дедушка-
мельник «зрил в корень», определяя своему сыну путь
в инженеры. Но сын, всю войну делавший для фронта
«катюши» и севший после войны по доносу подлеца-
управдома, мог ведь и не отделаться несколькими годами лагеря — шлепнули бы «без права переписки»!
И дочь его за еврейскую фамилию могли бы отсеять в
отборочной комиссии юридического института. И тогда «фоксик» был бы станцован не в студенческой, а в
менее изысканной аудитории…
А все равно было бы счастье. Счастье — несмотря
ни на что. Несмотря на времена, которые потом можно назвать немыслимо трудными, беспросветно-тота-
литарными, провально-подлыми. «Времена не выбира-
ют», — сказал поэт. А безвестный мудрец за века до
поэта научил свой народ: ничему плохому не удивлять-
ся, всему хорошему радоваться.
Упрямое, демонстративное, подчас вызывающее
жизнелюбие Аллы Гербер — это заклятье предощу-
щению беды, встретить и выдержать которую душа
должна быть готова каждое мгновенье. Это — самый
точный контекст ее молитвы о родителях. Не кон-
текст мировой религии, которая растворяет твою боль
в тысячелетиях, и не контекст сказки, которую надо
сделать былью немедленно, «или нас сомнут», но контекст истории, которая кровавыми контурами проступает сквозь благие намерения вождей и народов.
В стенах дома бабушка жарит гренки, здесь пахнет
уютом, счастливое детство дышит в гнезде, свитом над
пропастью. Это — в стенах…
А за стенами — там, на легендарной Дерибасовской, другую бабушку, привязанную к телеге, вот-вот
поволокут в гетто, а за телегой побегут ее дочери, которые останутся в Одессе, потому что не смогут бросить мать, а за ними — их дети, талантливые мальчики, победители математических олимпиад и чемпионы
шахматных турниров. Они все погибнут в гетто. И их
московская сестра, вместив катастрофу, найдет в себе
силы сказать, что именно в этой страшной ситуации
надо суметь жить дальше и быть счастливой.
Еще и «пожалеет обидчика». Толкнувшего — простит.
Я ищу в повести Аллы Гербер полюс ненависти. Ну,
вот хотя бы фигура того управдома, что «уплотнился» в
их «жилплощадь», а потом написал на ее отца донос и
упек того в лагерь, а сам победоносно пел по вечерам:
«Ой, Галина, ой, дивчина…» Судьба отомстила ему: он
лишился рассудка; по ночам забирался под кровать и
все прятался от каких-то преследующих его врагов…
Заметьте: судьба ему отомстила, но автор — не мстит,
и сквозь то, что рассказывает нам автор, просвечивает не только окончательная подлость несчастного, но
и первоначальная беда его. Значит, и за ним гнались,
и его подняли с родного места, так что всю последующую жизнь, вместо того чтобы петь про дивчину в
родной хате, хлопец мысленно бился под кроватью,
ожидая своих мучителей.
Разница: схватив свой «кусок и угол», он так и не
стал счастливым.
А тот, кого он упек, — был счастлив. Не согнулся и
в лагере. Вернулся. Вырастил дочь.
Сквозь «родительскую идиллию» Аллы Гербер кровоточит время. Страшное время. Или, как она сдержанно говорит, — «трудное время».
Читатели знают Аллу Гербер по пронзительным
статьям, книгам, интервью, выступлениям по радио и
телевидению. Ее общественный темперамент широко
известен: его хватает и на политику. Где источник этой
энергии?
Необязательно углубляться в века и тысячелетия —
надо войти в ограду тихого кладбища, где покоятся
московская учительница, всю жизнь преподававшая
немецкий язык в школе, и специалист по сопромату, делавший в войну «катюши», — надо постоять над
ними молча, сотворив то, для чего ни у них, ни у их
дочки, блестящей советской журналистки-шестидесятницы, долго не было слов. А потом слова нашлись и
отворили боль.
МАМА И ПАПА
ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ
Как же нам хочется остаться одним! Как ждем того
часа, когда они уйдут и можно будет пригласить
гостей! Как ждем того дня, когда без них можно
будет делать что угодно… «Свободная хата», «мутер с фатером отвалили», «предки слиняли», «мамы
с папой дома нет»… Проходят годы, и ничего не
остается в памяти от той долгожданной свободы.
Ничего, кроме запаха пыли, подгнивших продуктов в помойном ведре, черных подтеков на паркете,
окурков под диваном, осколков маминой любимой
тарелки, пробоин в книжном шкафу и винных пятен на зеленом сукне письменного стола… Вот и
все, что удержала память от тех долгожданных вечеров, когда мамы с папой не было дома…
А запомнилось совсем другое — то, что было на
самом деле ДОМОМ, нашим общим домом, который вижу, слышу, чувствую по сей день.
Написала — «вижу», но тут же подумала, что
прежде всего, конечно, слышу. Дом начинался с
музыки.
Мама так и не закончила консерваторию, а папа
так и не стал певцом, хотя, как утверждали специалисты, у него был редкостного тембра баритон.
Сбившись на государственных экзаменах (она
играла «Лунную сонату» Бетховена), мама убежала
со сцены и больше никогда не вернулась. Это была
ее непреходящая боль, которая мучила всю жизнь,
но преодолеть пережитый страх она не могла, уговаривая себя, что никогда не была особенно способной, просто музыкальной, так что человечество
ничего не потеряло. Человечество — конечно же,
нет, но она навсегда утратила саму возможность
играть — рояль и манил и пугал ее одновременно. Музыка осталась ее неразделенной любовью,
которой она открывалась только на концертах в
консерватории. Вот там, уже не сдерживаясь, не
скрываясь, она отдавалась своей любви. И всегда
это был юношеский восторг, как бы впервые от-
крытое переживание, первый удар любви, первое
от нее потрясение. После концерта она спешила домой, чтобы не расплескать услышанное, тут
же, самой, воспроизвести… Но старый «Бехштейн»
держал ее на расстоянии, так и не простив давнего
предательства.
В сорок девятом, после ареста отца, в дом при-
шла нужда. Надо было что-то продать, но продавать особенно было нечего. Мама запеленала онемевший с того дня инструмент, и его унесли пропахшие вином люди. Стыдно писать, но я сочла
это предательством — сама не играя, она всегда
аккомпанировала отцу, когда он пел. Я тогда не
понимала, что, для того чтобы сохранить дом, она
отдавала самое дорогое — их общую мечту, их по-
жизненную страсть.
* * *
Деда со стороны отца я не помню. Рассказывают,
что он был ортодоксальным и деспотичным. С
юности работал как вол — в прямом смысле слова, ибо сначала батрачил на чужой земле, а потом
арендовал ее у разорившегося помещика, но воз-
делывал, что называется, своими руками. А потом
и мельницу построил. Папа не без гордости рас-
сказывал, что он, как, впрочем, и три других его
брата, действительно пахал землю с четырнадцати
лет, совсем как те книжные герои, которые, поучая своих детей, любят повторять: «Я в твои годы
землю пахал…» Отец не очень-то поучал, но считал,
что работать с детства — норма. «Учиться, — гово-
рил он, — тоже работа». Он терпеть не мог безделья, просто физически уставал от ничегонеделания.
Я не помню его отдыхающим, разве что дважды за
всю жизнь ездил лечиться в санаторий, но, судя по
письмам, места себе там не находил и считал мину-
ты до возвращения домой.
Но больше всего он любил петь. Стать актером ему не позволил собственный отец. Гиганту с
большими тяжелыми руками, который никогда не
поднимался позже шести, профессия актера пред-
ставлялась несерьезной, недостойной здорового
мужчины. Дед считал своим долгом дать сыновьям
образование, чтобы они были «приличными, уважаемыми в обществе людьми». А петь… «Петь, —
уверял дед, — можно дома, петь — это не работа…»
Когда отец пел, дед плакал и благодарил Бога, что у
него такой одаренный сын. Но… обещал проклясть
сына, если тот вздумает поступать в консерваторию. Отец не посмел ослушаться — он стал инженером, как того хотел дед, и никогда ни одним
словом не попрекнул ни его, ни свою работу. Но
знаю — страдал всю жизнь, хоть и повторял, что
раз на то была воля отца, значит, так оно и должно
было быть.
Была, конечно, какая-то правда и за той, дедовской, правдой — в то время, когда его сыновья уходили в люди, нужно было вооружить их конкретным делом, надежной, на все случаи, профессией.
«Еще большой вопрос, — говорил дед отцу, — что
тебя, сына мельника Хаима из Березовки, возьмут
в актеры, — а в инженеры возьмут… Техника, если,
конечно, иметь голову на плечах, не подведет. Техника, юриспруденция, медицина и экономика…»
Вот так мельник Хаим распределил четыре перспективные профессии между своими четырьмя
перспективными сыновьями. Отцу досталась инженерия. Он никогда не занимал больших постов,
был, что называется, типичным производственником. Сказать, что горел на работе, тоже нельзя, потому что это было его естественное состояние во всем: работать так работать, гулять так гулять. Но
из всех подарков, грамот, благодарностей «за честный труд» он, по-моему, больше всего ценил письма деда на иврите, который до самой смерти аккуратными печатными буквами выписывал на кон-
верте: «Инженеру Герберу». Но я, по-видимому,
унаследовала дедовский максимализм и не могла
ему простить, что папа не стал певцом. Я слышу,
как будто не вчера, не когда-то, а сейчас, в эти минуты, когда пишу эти строки: «Постой, выпьем,
ей-Богу, еще…» И вижу ту заснувшую реку, по ко-
торой «с тихой песней проплыли домой рыбаки…».
И тот цыганский табор, с которым ушла неверная
Земфира, и того цыганского барона, который был
влюблен… И ту неведомую Бетси, за которую пили
полные бокалы, и «…легко на сердце стало, забот
как не бывало…».
«О, если б навеки так было…» Если бы можно
было вернуть те минуты, когда мама брала ноты и,
волнуясь, как школьница на экзаменах, садилась
на краешек стула, опускала свои мягкие длинные
пальцы на клавиши «Бехштейна» и, глубоко вздох-
нув, начинала… «Что наша жизнь? Игра», — без
надрыва, на улыбке пел папа, словно не веря герою, что жизнь — и впрямь игра, не предполагая, как далеко игры в жизни могут завести людей и как
надолго они уведут его от нас.