Ариадна Борисова «Манечка, или Не спешите похудеть»
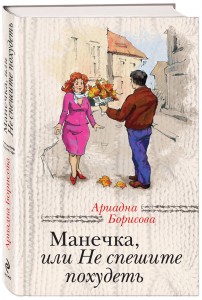 Ее избыточный вес и невысокий рост дополняло крапленое веснушками круглое лицо. Это невыразительное лицо с серыми глазками, носом-пуговкой и унылым ртом подковкой вниз было обрамлено слабыми завитками оттенка ивового листопада. В диссонанс к осенним волосам она, независимо от времени года, носила платья праздничных летних тонов, поэтому напоминала на строгом фоне библиотеки Научного центра залетевшую сюда по ошибке пеструю бабочку. Коллеги называли ее Маняшей, как и соседи по многоэтажке, где она со времени рождения жила ровно тридцать лет и три года, а за спиной – «просто Маняшей» за пристрастие к латиноамериканским сериалам. Детское имя подчеркивало ее инфантильность, да и вообще она была похожа на толстую девочку, несправедливо поставленную кем-то в угол, да там и забытую.
Ее избыточный вес и невысокий рост дополняло крапленое веснушками круглое лицо. Это невыразительное лицо с серыми глазками, носом-пуговкой и унылым ртом подковкой вниз было обрамлено слабыми завитками оттенка ивового листопада. В диссонанс к осенним волосам она, независимо от времени года, носила платья праздничных летних тонов, поэтому напоминала на строгом фоне библиотеки Научного центра залетевшую сюда по ошибке пеструю бабочку. Коллеги называли ее Маняшей, как и соседи по многоэтажке, где она со времени рождения жила ровно тридцать лет и три года, а за спиной – «просто Маняшей» за пристрастие к латиноамериканским сериалам. Детское имя подчеркивало ее инфантильность, да и вообще она была похожа на толстую девочку, несправедливо поставленную кем-то в угол, да там и забытую.
Только мать, известная в городке и на сто рядов заслуженная учительница физики, с малолетства величала Маняшу официально, по имени-отчеству – Мария Николаевна. В уважительном, казалось бы, обращении крылся немалый изъян, потому что отец у дочери отсутствовал.
Дома мать была такой же занудно правильной, как в школе, что, однако, не мешало ей, поймав на мелких прегрешениях, больно стукать Маняшу по лбу костяшками твердых педагогических пальцев. При этом мать тяжко вздыхала:
– Дура ты, Мария Николаевна, дура круглая и толстая…
«Дуре» могло быть шесть лет, семнадцать или двадцать пять – роли не играло. В эти слова, вместе с особой горечью выговариваемым отчеством, мать втискивала слишком многое, в чем не отдавала себе отчета.
После внешкольных воспитательных методов на лбу Маняши долго оставались красные пятна. А лишь сходили одни, она снова что-нибудь проливала, забывала или опрокидывала, и возникали новые.
В детстве мать отвозила дочь на лето в деревню к дедушке Савве. Звонила ему предварительно, чтобы вызнать, там ли сестра Кира, и, если та была у деда, откладывала поездку на другой день.
Однажды тетя Кира прибыла спонтанно. Мать с Маняшей, гостившие у деда, не успели вернуться в город. Маняша видела, как дедушка суетился и заискивал перед дочерьми, как украдкой от матери, привстав на носки, неловко чмокнул в лоб высокую тетю Киру, а та даже не позаботилась нагнуться. Чувствуя давнюю смуту, обуревающую троих взрослых, думала: неужели маме и тетке нравится мучить деда? Пусть бы они никогда к нему не приезжали.
За столом родственники безмолвствовали. Раздавалось только робкое чавканье дедушки. Первой настороженную тишину нарушила мать. Когда Маняша потянулась к общей миске за последним кренделем, мать ударила ее по руке ложкой и простонала:
– Ест и ест, и как только не лопнет! Вся в Николая, тот тоже ни в чем свои хотелки умерить не мог!
Маняша привычно покраснела от стыда, а отчасти от огорчения, потому что мать забылась в гневе и сама схватила крендель, но надкусила и бросила. И тут Маняша приметила, что никто на нее не смотрит и не считает, сколько чего она съела. Все были чем-то возбуждены, все сидели красные. Щеки тети Киры покрылись малиновыми пятнами. Вилку она сжала так сильно, будто собралась проткнуть ею кого-то. Побагровевший дедушка переводил затравленный взгляд со старшей дочери на младшую.
Тетя Кира, слава богу, взяла себя в руки и сделала вид, что в упор ничего не слышала. Кривая задиристая усмешка на разрумянившемся лице матери погасла. Чуть повременив после обеда, тетка ушла без «до свидания». Дедушка не кинулся вслед, он как раз увидел, что мать учит Маняшу правилам жизни посредством безжалостных костяшек.
Дед всегда сочувствовал маленькой растяпе, а тут считал виноватым себя. Перепуганная Маняша прибежала к нему, бренча обнаруженным в кружке зубным протезом:
– Деда, деда, к нам ночью мертвец приходил!
Дед был сконфужен. Откуда девочка шести лет от роду могла знать о существовании искусственных зубов, если никогда их не видела отдельно от человека? Зубастую низку с младенчески розовой пластинкой неба дед в расстроенных чувствах забыл в кружке с водой на полке умывальника. А Маняша, видимо, захотела пить. Ну и выпила, заметив главное содержимое кружки слишком поздно… Поэтому, когда мать разоралась на безответную внучку и по обыкновению тукнула по лбу, чем моментально довела ее до рыданий и икоты, старик со злости выложил то, что давно угнетало его простую честную душу:
– Чего вытворяешь-то, учительша хренова? Ребенок тебе в чем виноват? Нагуляла, так сама и носи грех свой!
– Ах, нагуляла?! – с готовыми слезами в голосе закричала мать. – Я – нагуляла! По-вашему я, выходит, шлюха… Что ж, спасибо за правду, Савва Никитич, наконец-то глаза мне открыли!
Прижав руку к груди, она со щедрым размахом поклонилась деду в пояс, а когда поднялась, щеки ее полыхали, как исхлестанные.
Дед смутился, но не отступил:
– Ты, давай, лишних слов-то мне не приписывай…
– Я, может быть, и шлюха, – повторила мать, с мстительным удовлетворением отпечатывая слова. – Да только не родной вы мне отец, так не вам меня и судить!
Маняша присела в углу за шкафом. Она догадывалась, что странным образом является не то причиной, не то следствием застарелого конфликта.
Слово «шлюха» было ей известно. Между магазином и автобусной остановкой работал пивной ларек. Вечерами у грубо сколоченных стоек взволнованно толклись местные мужики. Складывая губы хоботками, как пчелы, они шумно тянули кудрявую пену из больших стеклянных кружек. Отволновавшись, мужики расслаблялись и начинали о чем-то разговаривать, перемежая беседу круглым хохотком. Одинаковые пенно-седые усы подрагивали и тихо опадали под вспотевшими носами. Скользкие, точно маслом сбрызнутые, словечки ловко вливались в ленивые речи. Маняша сразу сообразила: эти слова подсобные, приложенные к другим, как пряный соус для основного блюда. Можно без них обойтись, но с ними вкуснее…
Что они на самом деле означают, растолковала знакомая девочка постарше, когда наивная Маняша приправила разговор одним из масляных слов. Легкая на слух лексическая добавка обернулась тяжкой тайной: «Сука – значит, шлюха. А шлюха – это…»
Маняша долго не могла избавиться от постыдных дум. После девочкиных объяснений обманчивые слова как будто вывернулись наизнанку. Теперь они напоминали красно-сизые, тошнотворные кишки боровка, зарезанного и выпотрошенного на ее глазах весною в соседском дворе.
Из уст матери ужасное слово вылетело впервые. Вспомнив о Маняше, она охнула, больно ухватила ее за локоть и выволокла в сенцы. Дверь захлопнула с таким оглушительным треском, будто решила отгородиться от дочери раз и навсегда. Однако дверь тотчас же и открылась. Вышел дед и, покряхтывая, уселся рядом на крыльцо. Опустив головы, старый да малая сидели молча, пока мимо громко стучали каблучки светло-серых туфель – словно кто-то гвозди в ступеньки заколачивал.
Маняша не решилась поднять глаза на сердитую материну спину. Хвалясь безупречной чистотой, заносчивые туфли торопливо понесли мать по тропе. Маняша глянула на свои измызганные, только вчера купленные сандалии. Вздохнула и стала слушать дедушку. Он начал говорить, едва проскрипела затворенная за матерью калитка.
Что-то из сумбурного его рассказа Маняша тогда поняла, что-то просто почувствовала. Деду, уразумела она, хотелось выговориться, выпустить из сердца надсаду, а некому было. Лишь годы спустя Маняша до многого добрела собственной ученой головой. Не ученой, а именно ученой, ударение на «у», ведь время от времени ее лоб продолжал испытывать доказательства незыблемой учительской правоты.
…Бабушка сошлась с дедом вопреки желанию дочери Натальи. Тетя Кира была общим ребенком и не упускала случая подчеркнуть свою «полноценную» близость к родителям. А дед Савва, рано овдовев, воспитывал девчонок, никого не выделяя. На деньги, вырученные за многодойную женину корову, справил старшей одежку поприличнее, комнату ей снял в городе рядом с пединститутом. Потом Наталья сама привыкла выкручиваться на стипендию и стройотрядовский заработок. Приезжала, к зависти Киры, в туго затянутом новом пальто, в купленных на спекулянтском «толчке» импортных сапогах. Блестя вприщур голодными злыми глазами, напевала частушку, в которой рифмовались «талия» и «Наталия». Савва Никитич радовался Натальиной самостоятельности и одновременно огорчался, слыша в ее недомолвках торжество и упрек: не на твои средства, отчим дорогой, одета я и обута. Из деревенской деликатности ни разу не укорил огурцами-помидорами, не виданными на домашнем столе. Овощи катились с теплиц прямиком на базар – в уплату за аренду комнаты для студентки.
После института Наталья получила место в учительском общежитии. В работе сразу отличилась, организовав какие-то оригинальные олимпиады, и спустя несколько лет затейливыми путями выбила себе квартиру у городского отдела народного образования.
А тут и вторая дочь подросла вместе с требованиями кистей, красок, дефицитной акварельной бумаги. Учителя открыли в Кире неведомо откуда свалившийся талант к рисованию. Младшая отправилась в далекий город, в университет с художественным факультетом. Ее обучение спросило больше сестриного и оставило во дворе из всей живности одну старую, подслеповатую собаку.
Прежде двор был истоптан ногами и выжжен солнцем, как бок глиняного горшка. Дед взрыл и взрыхлил эту каменную твердь, до последнего комочка просеял-протер напополам со старым навозом. По осенинам к крыльцу вплотную подступала темная картофельная ботва, украшенная поверху невинными белыми цветочками, а с исподу чреватая тяжелыми клубнями. Славное природное удобрение старик вывозил на тележке с заднего двора опустевшей колхозной фермы до тех пор, пока здешние власти не прочухали, что пропадает зазря хороший компост. Самосвалы и грузовики мигом очистили многолетние золотые залежи.
Соленый мужицкий пот и навоз превращались в выручку, перетекающую в Натальины теоремы-формулы и Кирину изобразительную грамоту. Неизвестно, гордилось ли коровье дерьмо на каком-нибудь своем клеточном уровне честным вкладом в дело просвещения. А вот сестры и словечком никому не обмолвились, на чем пышным цветом произрастал финансовый минимум их образовательного максимума. Они, напротив, явно стеснялись примитивных ухищрений Саввы Никитича и его самого.
– …вот и осталася Кира в стародевках, – сказал дед, сидя с Маняшей на крыльце.
– Что такое «стародевка»?
– Которую замуж не берет никто. – Дед раскраснелся и чуточку оскалил крупные желтые зубы, совсем как тетя Кира, когда гневалась на Маняшу. – Кому нужна станет этакая-то вобла? Из диет не вылазиит, юбка на мослах болтается, сама курит… тьфу! Воображает – прынцесса на горохе!
Он помолчал, отгорая. Жалел уже, что выплеснул малолетней, безгрешной душою внучке давно накопленную обиду на дочерей.


