Аристотель «Метафизика» Перевод Александра Маркова
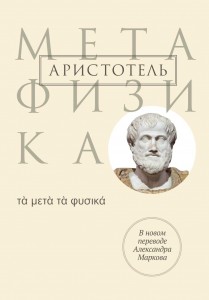 Все люди от природы охотники до знания. Примета этого — чувственное восхищение: без всякой пользы люди любят чувствовать ради чувства, особенно смотреть. Мы не только в работе, но и когда не собираемся работать, предпочитаем смотреть, а не что-то другое делать. Среди всех чувств лучше всего зрение помогает познанию, показывая нам все возможные различия вещей.
Все люди от природы охотники до знания. Примета этого — чувственное восхищение: без всякой пользы люди любят чувствовать ради чувства, особенно смотреть. Мы не только в работе, но и когда не собираемся работать, предпочитаем смотреть, а не что-то другое делать. Среди всех чувств лучше всего зрение помогает познанию, показывая нам все возможные различия вещей.
От природы все живые существа умеют пользоваться чувствами, но только у одних это не доходит до памяти, а у других доходит. Последние умнее и ученее тех, кто не умеет помнить. Бывают умные, но не знающие учебы: нельзя научиться, если не умеешь воспринимать звуки. Таковы пчелы и некоторые другие роды живых существ. Учатся те, кто кроме памяти имеют чувство слуха. А другие живут фантазиями и памятованиями, а к опыту почти не обращаются. А человеческий род также умеет быть искусным и рассудительным.
От памяти в людях рождается опыт: многократно запомненная одна и та же вещь приобретает силу опыта. Знание и изготовление вещей тоже близки опыту, потому что если люди приобрели опыт, то они лучше справляются с задачами наук и искусств («готовок»). Пол сказал «Опыт — творец искусства», а неопытность — творец удач и неудач.
Искусное изготовление вещей рождается, когда из множества замечаний о происходящем возникает общая предпосылка для сходных решений. Пока мы исходим из того, что когда Каллий болел, помогло такое-то лекарство, и оно помогло Сократу и еще многим — это только опыт. Но если мы определяем это лекарство при болезни всем людям такого-то вида, скажем, всем флегматикам или холерикам при высокой температуре — это уже искусство.
В работе мы не отличим опыт от искусства, более того, опытные лучше тех, кто не наблюдает за происходящим, а умеет только формулировать. Просто опыт позволяет знать отдельные события, а искусство — общие правила. Когда же мы работаем или когда возникает что-то новое, всегда имеем дело с отдельными вещами. Врач не лечит человека, разве что если словом «человек» будем обозначать свойства, но лечит Каллия или Сократа или кого-то еще по имени, кому случилось оказаться человеком.
Если кто-то знает формулу, но не знает, что происходит, то он знает только общее, а в отдельных событиях разобраться не может, и потому часто ошибается при назначении лечения: лечим мы каждый раз разное. Но мы понимаем, что для знания и назначения искусство важнее опыта, потому что кто учился искусству, тот мудрее наблюдателя, и сами знания такого человека всегда шествуют за мудростью. Мудрый знает причины вещей, а наблюдательный не знает. Опыт позволяет знать, что происходит, но ничего не объясняет, почему так происходит. А знать, как почему что происходит — это значит знать причины.
Поэтому мы большую честь оказываем архитекторам, чем строителям, понимая, что архитекторы лучше всё знают и лучше следуют мудрости. Ведь они знают причины изобретений.
А строители работают, как срабатывают некоторые неодушевленные вещи, создающие что-то сами не зная как: скажем, огонь обжигает кирпичи. Только неодушевленные вещи от природы создают новые вещи, а строители — потому что привыкли.
Поэтому мудрость приобретается не от разных работ, а от владения формулами и от знания причин. Знающий опознается по умению научить других. Поэтому мы относим искусство к знанию, а не к опыту: люди искусства умеют учить, а опытные люди учить не умеют.
Затем, ни одно из чувств мы не можем полагать мудростью, хотя чувства и стоят во главе знаний об отдельных вещах. Но чувства не могут назвать ни одной причины: почему огонь горяч; они просто говорят, что он горяч.
Понятно, что кто вопреки обычным чаяниям чувств открыл какое-то искусство, тот вызывает удивление у всех людей не только потому, что его открытия полезны, но потому что он мудр и не такой как все.
А когда изобрели больше искусств, как для нужд, так и для досуга, мы предполагаем, что эти изобретатели всегда мудрее предшествующих, потому что их знания выше пользы. Как только были изготовлены все искусства, тогда уже открытия стали делаться не для каких-то наслаждений или ради необходимости; прежде всего в тех местностях, где можно сидеть и размышлять. Так, математические искусства были разработаны впервые в Египте, где племени жрецов было разрешено сидеть и ничего не делать.
Мы говорили в «Этике», в чем различие между искусством, наукой и другими однородными занятиями. Поэтому сейчас мы будем формулировать другое: что мудрость, которую признают все люди, занимается первопричинами и принципами — почему, как мы говорили выше, опытный человек мнится мудрее просто пользующегося чувствами человека, искусный человек мудрее опытного человека, архитектор мудрее скульптора, а теоретик мудрее поэта. Итак, очевидно, что мудрость посвящена началам и причинам.
2
Так как мы ищем такую науку, нужно посмотреть, какого качества причинами и началами занимается мудрость как наука. Если взять предположения о мудреце, скорее всего, они нам многое объяснят.
Прежде всего, мы предполагаем, что мудрый знает всё, пусть даже не обо всём у него есть своя наука. Затем, он может знать трудное, что узнать человеку — не легкая задача. Ведь чувствовать все умеют, это легко, мудрость здесь не нужна. Затем, тот мудрее в любой науке, кто точнее и поучительнее выявляет причины. А мудрость среди наук та наука, которая выбирается ради нее самой и ради самого знания, а не ради результатов. Мудрость опережает любую служебную науку: мудрец не подчиняется, но приказывает, и не слушается, но заставляет слушаться менее мудрого.
Таков список качественных предположений о мудрости и мудрецах. Приходится признать, что лучше всего знает всё тот, кто располагает знанием о всеобщем. Ведь он знает все вещи как подлежащие всеобщего.
Но людям труднее всего познать самое всеобщее. Ведь оно дальше всего от чувств.
Самые точные из наук — которые больше всего о первых вещах. Ведь науки, обходящиеся немногим, точнее наук, собранных прибавлением знаний. Так, арифметика точнее геометрии.
Но и для обучения лучше всего годится наука, созерцающая причины. Ведь те умеют учить, кто называют причины каждой вещи.
Знать и понимать ради самого знания и понимания лучше всего умеет самая знающая наука. Кто выбрал знать ради знания, тот предпочтет наилучшую науку, а такова наука лучших знаний. А лучше всего знать самое первое, как причины вещей. Исходя из них, можно познать всё остальное; а вот сами вещи ничего не будут рассказывать о своих причинах.
Самая начальная наука, начальствующая над служебной наукой — знающая, для чего совершается каждое действие. Для любого действующего эта цель — добро, а для всей природы — благородство.
Из всего сказанного следует, что искомое имя приходится на одну и ту же науку: нужно, чтобы эта наука умела созерцать первоначала и причины. Ведь и добро, и цель — единичные причины. А что это не поэзия, показали первые философы. Удивляясь, люди и теперь и тогда начинают создавать философию.
Сначала они удивляются странностям, которые под рукой. Но понемногу продвигаясь вперед, они начинают недоумевать и о большем. Скажем, о том, что происходит с луной, с солнцем, звездами; о том, откуда всё сделалось.
Но кто не может понять и удивляется, тот думает, что не знает. Поэтому знаток мифов тоже хоть как-то философ. Миф и складывается из удивительных вещей. Если люди занялись философией, чтобы уйти от невежества, то понятно, что они гнались за знанием ради науки, а не пользы. Свидетель тому обстоятельства: как только появилось практически всё необходимое, что облегчило быт, так люди стали искать качественного понимания. Очевидно, что понимаем мы ради какой-то еще пользы.
Как мы говорим «свободный человек» о том, кто работает на себя, а не на другого, — так и только эта из наук свободная: только она сама себе наука.


