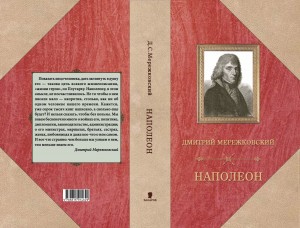Д.С.Мережковский «Наполеон»
Он входил в мир, но мир его не знал; может быть, он сам себя не знал как следует.
Успеху своему радовался, но не «удивлялся». Темным «знаниемвоспоминанием» зналпомнил, что этот успех только первый шаг на таком длинном и трудном пути, какого еще никогда никто из людей не проходил.
Что Тулон взят Бонапартом, знала вся армия, но этого не знал или не хотел знать Париж. «Нужно его наградить и отличить; а если будут к нему неблагодарны, он сам найдет себе дорогу», — писал Дюгомье в военное министерство.
Шестого февраля 1794 года Конвент подтвердил производство Бонапарта в чин бригадного генерала от артиллерии. Вместе с генеральским чином он получил хлопотливое, ответственное и ничтожное назначение по инспекции береговых отрядов Итальянской армии, получил и коечто похуже.
Войсковой депутат Конвента Робеспьермладший, очарованный Бонапартом, как все в Тулонском лагере, звал его в Париж, обещая ему, через брата, главнокомандование внутренней армией. Соблазн был велик. Но Бонапарт зналпомнил, что час его еще не пришел — «груша не созрела». Огненный юноша поступил как охлажденный опытом старик. «Что мне делать на этой проклятой каторге (т.е. в терроре)?», — ответил он Робеспьеру и отказался решительно. В этом отказе — весь Наполеон, с тем, что он потом называл «квадратом гения» и что можно бы назвать, по Гераклиту, «сочетанием противоположностей» — ледяного расчета и огненной страсти, Аполлона и Диониса. Он строит свою безумную химеру с геометрической точностью.
Наступило 9 термидора. Максимилиан Робеспьер был казнен, и младший брат его вместе с ним. «Я был немного огорчен его несчастьем, потому что любил его и считал непорочным, — писал Бонапарт о своем недавнем друге все так же холоднорасчетливо. — Но если бы даже отец мой пожелал быть тираном, я заколол бы его кинжалом». Скоро эта записка ему пригодилась.
Пало правительство, которому служил Бонапарт. Вспыхнул новый террор. Якобинцы доносили друг на друга, чтобы спасти свои головы. Саличетти, тоже недавний друг Бонапарта, написал на него донос в Конвент, будто бы он вступил в заговор с обоими братьями Робеспьерами, составлял для них военные планы, чтобы предать Республику ее врагам, генуэзцам, и хотел восстановить разрушенные укрепления Марселя, гнезда контрреволюции.
Конвент постановил предать Бонапарта суду. Двенадцатого августа он был арестован и посажен в антибскую крепость. Знал, что из тюрьмы на плаху один шаг, мог бы легко бежать, но помнил, что этого делать не надо.
«От начала Революции не был ли я всегда ей предан? — писал он в своем оправдании Конвенту. — Я всем пожертвовал, всё потерял для Республики… Я заслужил имя патриота… Выслушайте же меня, снимите с меня тяжесть клеветы… Если же злодеи хотят моей жизни, я так мало дорожу ею, так часто презирал ее. Да одна только мысль, что жизнь моя может быть полезной отечеству, заставляет меня нести бремя ее с мужеством!»
Через две недели он был освобожден, но не восстановлен в прежней должности, а назначен командиром пехотной бригады в Западную армию, в глухую и кровавую Вандею, в ссылку, и за отказ ехать туда выключен из списка боевых генералов. Такова была награда за Тулон.
Нить жизни его оборвалась; надо было все начинать сызнова.
В конце мая 1796 года он приехал в Париж. В армии он уже был Наполеон, а в Париже — никто или хуже — темная личность, опальный генерал Конвента. Обнищал, последние деньги, привезенные из армии, истратил на неудачные спекуляции. Праздный, шлялся по улицам. Иногда находили на него минуты отчаяния: «Я почти готов уступить животному инстинкту, влекущему меня к самоубийству». — «Я очень мало привязан к жизни… У меня всегда такое состояние духа, как накануне сражения; я убежден, что ежели смерть вотвот окончит все, то серьезно беспокоиться о чем бы то ни было просто глупо; ну, словом, все заставляет меня бросить вызов судьбе, и, если это так долго продолжится, я когданибудь не отскочу от наезжающей кареты».
«Это было самое тощее, самое странное существо, какое я когдалибо видела, — вспоминает Бонапарта тех дней одна умная женщина. — Он носил по тогдашней моде “собачьи уши”, непомерно длинные, до плеч, волосы… Мрачный взгляд его внушал мысль о человеке, которого нехорошо встретить под вечер на опушке леса… Платье тоже не внушало доверия: потертый мундир имел такой жалкий вид, что мне сначала трудно было поверить, что это генерал; но я скоро увидела, что он человек умный, или по крайней мере необыкновенный. Если бы он не был так худ, что казался больным и что жалко было смотреть на него, можно было бы заметить, что черты его лица удивительно тонки; особенно рот был прелестен… Иногда он много говорил и оживлялся, рассказывая об осаде Тулона, а иногда угрюмо молчал… Мне теперь кажется, что в очерке рта его, таком тонком, нежном и твердом, можно было прочесть, что он презирает опасности и побеждает врага без гнева».
В это время он получил место чиновника в топографическом бюро военной канцелярии при Комитете общественного спасения, львиной пасти Террора, и представил главнокомандующему внутренней армии, генералу Шерреру, план Итальянской кампании, тот самый, который исполнил через год, величайший стратегический замысел после Александра и Цезаря. Шеррер объявил его «безумной химерой, вышедшей из больного мозга». Тогда Бонапарт решил ехать в Константинополь, к султану, артиллерийским инструктором: к черту на рога, только бы вон из Парижа!
После 9 термидора положение Конвента сделалось безвыходным. Роялисты и якобинцы соединились: эти, чтобы задушить революцию; те, чтобы возобновить террор.
Двенадцатого вандемьера, 4 октября, тридцать из сорока восьми военных секций Парижа, с батальоном национальной гвардии в каждой, подняли восстание и осадили Конвент. Тридцать тысяч штыков угрожали ему. Главнокомандующий армией Конвента генерал Мену, не смея стрелять в «царянарод», вступил в переговоры с бунтовщиками, за что был объявлен изменником и арестован. На место его назначили депутата Барраса. Будучи плохим генералом, он нуждался в помощнике. Вспомнили тогда о тулонском герое, Бонапарте.
В час ночи Баррас вызвал его к себе и предложил ему командование армией, вторым после себя.
— Дайте подумать, — сказал Бонапарт.
— Думайте, но не больше трех минут, — ответил Баррас и, стоя перед ним, ждал.
В эти три минуты решилась судьба Наполеона. «Сделаться ли козлом отпущения за столько чужих преступлений? Прибавить ли имя свое к стольким страшным именам?»
Спасти Конвент — спасти террор. Только что ВолчицаРеволюция едва не пожрала его; припадет ли он снова к ее железным сосцам? Может быть, он тогда не думал об этом; только прислушивался к тихому голосу своей Судьбы, к темному «знаниювоспоминанию».
— Я согласен, — ответил он через три минуты. «Бонапарт, это еще что за черт?» — недоумевали в армии Конвента. «Мне надо было увидеть этого маленького человека с монументальным лицом, чтобы узнать того, кто некогда в аллее Фейянов явился мне “как жертва”, — вспоминает генерал Тьебо, может быть, сам не понимая как следует всю глубину этих двух таинственных слов: “как жертва”. — Беспорядок в одежде, длинные, висящие волосы и ветхость всего жалкого убора попрежнему обличали его нищету… Но он изумил всех своею деятельностью: был вездесущ; только что исчезал в одном месте, как появлялся в другом; изумил еще больше краткостью, ясностью и быстротой своих распоряжений, в высшей степени повелительных; наконец, верность его диспозиции сначала поразила, а потом восхитила всех».
В течение пяти ночных часов он все приводит в порядок, «распутывает хаос».
Против тридцати тысяч штыков национальной гвардии у Конвента было только тысяч семьвосемь довольно сомнительного войска. Чтобы увеличить его, открыты были тюрьмы и выпущены самые опасные террористы. Пока болтуны болтали в Конвенте, солдаты братались с бунтовщиками на улицах. Бонапарт положил этому конец: вооружил самих депутатов, восемьсот человек, и болтуны умолкли, оробели, как будто вдруг поняли, что царству их наступает конец.
Секционеры отправили батальон в Саблонский лагерь, за артиллерией. Но Бонапарт уже раньше подумал об этом и послал за нею своего адъютанта, Мюрата; он предупредил секционеров и доставил артиллерию на площадь Людовика XVI. Этим все решилось. «Еще минута, и было бы поздно».
Поутру батальоны Конвента заняли всю улицу СентОноре и расположились по ступеням церкви СенРок. На случай неудачи обеспечено было отступление на Медон, настоящей военной диспозицией, как на поле сражения.
Первая стычка произошла в тупике Дофина и около церкви. Бонапарт велел открыть картечный огонь из двух орудий, помещенных на южном конце тупика. Ядра, летевшие вдоль улицы НевСенРок, очистили ее от бунтовщиков. Но у самой церкви начался яростный штыковой бой. Бонапарт установил батарею из шести орудий, трех справа, трех слева от входа в тупик, и картечным огнем обратил секционеров в бегство к ПалеРоялю, на Вандомскую площадь и дальше, на площадь Карусель, где тоже рассеял их картечью. Так исполнилось то, о чем он мечтал 20 июня 1792 года на той же площади: «Какая сволочь! Смести бы картечью сотни тричетыре, а остальные разбежались бы!»
Двух часов оказалось достаточно, чтобы шестью тысячами штыков разогнать тридцать тысяч. К шести часам вечера все было кончено.
Бонапарт в этот день выказал такую же доблесть, как при осаде Тулона. Лошадь под ним была убита. «Слава Богу, все кончено, — писал он брату Жозефу 14 вандемьера. — Мы перебили много народу и обезоружили секции… Теперь все спокойно. Я, по обыкновению, цел. Счастье за меня».
Он поспешил отправить 60 тысяч франков в Марсель, маме Летиции, у которой тогда оставалась в кармане последняя пятифранковая ассигнация.
В тот же день он произведен в главнокомандующие армией. Теперь уже никто не спросит: «Бонапарт, это еще что за черт?» Над Парижем, над Францией вставал во весь рост «маленький человек с монументальным лицом».
«Эти люди думают, что я нуждаюсь в их покровительстве, — говорил он без всякой гордости, — но когданибудь они будут счастливы моим собственным покровительством. Шпага моя при мне, я с нею далеко пойду!»
Вдруг весь изменился, преобразился. Адмирал Декре вспоминает о встрече своей после Вандемьера с Бонапартом, которого он считал своим другом: «Я кидаюсь, чтобы обнять его; но взгляд его, звук голоса останавливают меня. Ничего обидного не было в них, но я сразу понял всё и с той поры уже не пытался переступить за черту, которая была мне указана».
Эта черта отделяет его только от равных, но не от низших: он так же прост с простыми людьми.
После Вандемьера в Париже был голод. Выдача хлеба прекратилась; народ толпился у булочных. Наблюдая за спокойствием в городе, Бонапарт с частью своего Главного штаба проезжал верхом по улицам. Голодная толпа окружила его, стеснила, требуя хлеба с громкими криками, и все росла, становилась грознее. Одна непомерно толстая баба наступала яростнее всех, потрясая кулаками и крича: «Все эти золотопогонники смеются над нами! Только бы им самим жрать да жиреть, а что бедный народ подыхает с голоду, им наплевать!» — «Эй, тетка, посмотри на меня, кто из нас толще?» — ответил ей Бонапарт, и толпа рассмеялась, ярость потухла. Так от одной улыбки бога Солнца издыхает Пифон.
Наступали веселые дни Директории. В воздухе пахло весною; лед Террора таял на солнце Реакции.
В эти дни сошелся Бонапарт с виконтессой Жозефиной Богарне, урожденной девицей Таше, креолкой с острова Мартиники. Муж ее, президент Конституанты1, главнокомандующий Рейнской армией, покинул ее в бедности, с двумя детьми на руках; коекак перебивалась она, делая долги, занимаясь не слишком удачными спекуляциями и не отличаясь строгим нравом. Во время Террора виконт Богарне был казнен. Арестовали и гражданку Таше, хотя она выдавала себя за «добрую санкюлотку» и была подругой Шарлотты Робеспьер. Только чудом спаслась она от гильотины и прямо из кровавых застенков Консьержери попала в блестящие салоны бывших аристократов и новых спекулянтов, где и встретил ее Бонапарт.
Она была уже не первой молодости и скрывала свои годы — тридцать два. Смугла, как настоящая креолка, но искусно белилась; улыбалась осторожно, чтобы не показывать скверных зубов. У нее были прелестные, томные глаза и тихий голос, такой певучий, что слуги останавливались у дверей, чтобы послушать его. Главная же прелесть ее была в движеньях, плавных, влачащихся, как движения водорослей под набегающей волной. «Жозефина была совершенная грация», — вспоминал Наполеон на Святой Елене.
В дни бедности у нее было шестнадцать платьев и только шесть юбок: чаще меняла платья, чем белье.
Нравом была как «десятилетняя девочка»: так же легко плакала и утешалась, или как веселая птица мартиникских лесов. Можно ли было сказать об уме ее, что говорит Мольер о честности одного из своих героев: «Ее у него ровно столько, чтобы не быть повешенным»? У нее было очень много здравого смысла и тонкой женской хитрости. Наполеона, умнейшего из людей, — она не то что обманывала, но оборонялась от него с легкостью. «О чем бы я ни спросил ее, первым словом ее было: “нет”, и это, собственно, не было ложью, а только осторожностью, самозащитой».
Кажется, первый шаг к Бонапарту сделала сама Жозефина. Все мечтала выйти замуж за финансиста, но финансиста не подвернулось, и она удовольствовалась генералом. Через немного дней после первой встречи уже назначила ему любовное свидание в своем уютном особнячке на улице Шантарен, только что купленном ею на деньги любовника, Барраса. И еще через несколько дней они — жених и невеста.
«Люблю ли я его? — пишет она подруге. — Нет, не люблю… У меня к нему только теплое чувство, которое мне самой не нравится и которое благочестивые люди считают в религии хуже всего».
Он пламенеет. Жозефина — первая женщина, которую он любит или воображает, что любит. Любить нельзя без страсти, но можно быть страстным без любви. Кажется, такова страсть Бонапарта.
«День, когда ты скажешь: “Я меньше люблю”, будет моим последним днем. Если бы сердце мое было так низко, чтобы любить без взаимности, я растерзал бы его своими собственными зубами». Это, конечно, плохая риторика — воспоминание о «Новой Элоизе» и «Страданиях юного Вертера». Жозефина это хорошо понимает. «Ах, какой он смешной, Бонапарт!» — смеется она, когда он грозит ей «кинжалом Отелло». Но непрерывная восторженность его наконец утомляет ее, и на горизонте появляется господин Шарль, адъютант генерала Леклерка, маленький, курчавый крепыш с лицом коммивояжера, табельдотный ДонЖуан. С ним Жозефине веселее, чем с Бонапартом. Она, впрочем, к нему снисходительна. «Я очень люблю Бонапарта, несмотря на его маленькие недостатки», — пишет она Баррасу.
Может быть, и Бонапарт себя не обманывает. Хорошо знает, что берет ее, еще непростывшую, с Баррасова ложа. Но ему некогда много думать об этом: любит, как ест, спеша, давясь, глотая куски. И потом, всю жизнь, будет некогда.
«Я никогда не любил понастоящему; разве только Жозефину немного, да и то потому, что мне было тогда двадцать семь лет». — «Я не люблю ни женщин, ни карт; я ничего не люблю; я существо совершенно политическое».
Девятнадцатого вантоза, 9 марта 1796 года, подписан был в мэрии брачный контракт. Может быть, оба, по взаимному безмолвному согласию, предпочли церковному браку, слишком крепкому, более слабый, гражданский.
— Что вы делаете! — пугал Жозефину за несколько дней до свадьбы ее нотариус мэтр Рагидо. — У этого генерала ничего за душой, — только плащ да шпага!
Но Жозефина не испугалась. Помнила слова Бонапарта: «Шпага моя при мне, я с нею далеко пойду!»
Баррас был одним из свидетелей. От него получила Жозефина великолепное приданое — производство Бонапарта в главнокомандующие Итальянской армией. Через два дня после свадьбы он уже был на пути в армию.
Солнце еще не всходило, но уже порозовели утренние сумерки, и ему казалось, что он подымается от земли, как на могучих крыльях, — летит навстречу.