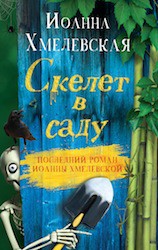Иоанна Хмелевская «Скелет в саду»
Нет, я не собиралась злиться, рассчитывала поговорить спокойно, по существу, во мне еще трепыхались остатки надежды на то, что мне удалось его очеловечить. Вот идиотка. Сделать человека из мужчины!
Потом я даже вспомнить не могла, что он такого сказал. Может, про мое вранье? Мол, я не вру только потому, что он ни о чем не спрашивает? Во-первых, это не так, на мои вопросы он отвечал исключительно вопросами, а во-вторых, как это следовало понимать? Что спроси он меня, я бы наплела бы с три короба? Дескать, этот тип, который счетчики ставит, на самом деле, не за счетчиком пришел, а чтобы со мной шуры-муры? Будто по пьяни оплевала какую-то тетку на площади Спасителя? Стал бы говорить, что честные люди меня видели и обо всем донесли? …
Никогда в жизни не плевалась в теток и не шаталась пьяная в дым по площади Спасителя, равно как и по любой другой площади, не говоря уже о том, чтобы вообще шастать спьяну по городу. Опять же никогда не питала слабости к слесарям, если к кому и тянуло, то к капитанам дальнего плавания, правда, прискорбием признаю, что тянуло безответно… но неважно, и на этот вопрос отвечу враньем, как и на любой другой. А как же еще!
Может, утаить про капитанов?
Или трусливо умолчать, как просадила на бегах все деньги, заняла на два дня у ростовщика и теперь дергаюсь из-за долга?
Или все было совсем иначе? Никак не вспомнить.
Хватит с меня воспоминания о том, как в моем жилище бесновалась ополоумевшая фурия, и о том, что я едва не подожгла дом незатушенным окурком, швырнув его куда-то в горючие материалы, которыми набита квартира. Была бы в руке боевая граната, и ее бы швырнула.
Как только не убила этого гада… Проорала все, что думала. Тоже мне, сверхчеловек, воплощенное благородство, божество превознесенное, перед которым покорные жрицы должны возжигать священный огонь, а я, видите ли, не слишком аккуратно хворост подкладывала. Жриц, возможно, было несколько, уж точно, поболее одной, но это никакого значения не имело: к святыне допускались не все, кой-кому только дровишки подносить дозволялось, но ни одна не удостоилась даже похвалы, какой там награды… Молчание божества означало, что его ублажили.
Все жили надеждой. Дуры.
Великодушия божество не ведало. Повелевало. Требовало. Не прямо, намеками, пусть баба сама догадается, чего желает владыка. Взамен божество ничего давать не собиралось, пусть и притворялось старательно, будто только того и мечтает одарить чем-то, искусно подпитывая надежды и тем самым демонстрируя благородство и заботу о чужих чувствах. А еще божество непрестанно поучало, как получше лелеять ранимое сердце – его, разумеется.
О да, я припомнила ему и тьму прочих достоинств, не только эти «слабости духа». Извергла все, что накопилось, и он не вынес такого потока восхвалений его совершенству – затрясся в приступе. Пьедестал не выдержал – и что прикажете с этим делать?
«Скорую» вызывать я не стала. В конце концов, он перестал трястись, своими силами справился.
И c того дня я его у себя не видела, а года через два или три поняла, что кое-какие настоящие достоинства у него все-таки имелись. Но, может, просто у меня все ножи и ножницы стали нуждаться в заточке. Как бы там ни было, это не слишком высокая плата за полную и окончательную победу над собственной глупостью, и оставшиеся остатки злости я обратила на себя. Ослица, что еще скажешь.
Почувствовав странную свободу от тирании, я уехала.