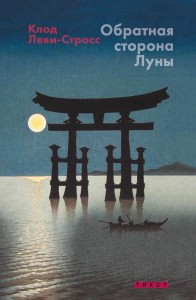Клод Леви-Стросс «Обратная сторона Луны»
…подобное никак не бывает дружественно подобному, но дело обстоит прямо противоположным образом: величайшая дружба существует между крайними противоположностями.
Платон. Лисид, 215 е
Европа дважды открывала для себя Японию. Первый раз — в середине XVI в., когда туда вслед за португальскими торговцами проникли иезуиты. Их изгнали уже в следующем веке, а три века спустя к островам прибыл флот Соединенных Штатов, принуждавших Страну восходящего солнца открыть свои пределы для международной торговли.
Одним из главных действующих лиц первого этапа стал Луис Фройс (Фройш). На втором этапе сопоставимую роль сыграл англичанин Бэзил Холл Чемберлен, и Фройс теперь воспринимается как его предшественник. Чемберлен родился в 1850 г. Отправившись в Японию, он о босновался там и с тал профессором университета Токио. В 1890 г. вышла его книга «Японские вещи», написанная в форме энциклопедии. В статье на букву «Т» под названием «Topsy-Torvydom» (мир, перевернутый вверх дном) он развивает мысль, что «многие вещи японцы делают совершенно противоположным образом по сравнению с тем, что почитают естественным и нормальным европейцы».
Японская швея, вставляя нитку в иголку, не протягивает нить в ушко, а надевает игольное ушко на нитку. Она не втыкает иголку в ткань, а накалывает ткань на иголку.
Предмет из обожженной глины, недавно извлеченный во время археологических раскопок, свидетельствует, что уже в VI в. японцы садились на лошадь справа, а не слева, как это принято у нас. Иностранный гость еще и сегодня удивляется тому, что японский плотник тащит пилу на себя, а не толкает ее, как европейский. Таким же образом он использует скобель — нож с двумя рукоятками, позволяющий делать поверхность дерева более плоской и тонкой. Гончар в Японии запускает круг левой ногой и по часовой стрелке, тогда как европейский или китайский двигает его правой ногой и против часовой стрелки.
Эти обыкновения, замеченные уже миссионерами-иезуитами, противопоставляют Япо- нию отнюдь не только Европе — линия раздела проходит между островной Японией и континентальной Азией. В то же время Япония заимствовала из Китая многие другие элементы своей культуры: например, двуручную поперечную пилу, которая пилит, когда ее толкаешь. Однако в XIV в. японцы изобрели пилу, которую надо тянуть, и она вытеснила китайскую модель. Пришедший из Китая в XVI в. скобель, который толкают, сто лет спустя уступил место моделям, работавшим при движении на себя.
Большинство перечисленных примеров содержались уже у Чемберлена. Будь он знаком с «Трактатом» Фройса, ставшим известным через одиннадцать лет после смерти англичанина, он обнаружил бы в нем впечатляющий и еще более обширный перечень наблюдений, подчас идентичных его собственным. И все они приводят к одному выводу.
Ни Чемберлен, ни Фройс, скорее всего, не представляли себе, что говорят о Японии практически в тех же терминах, в которых Геродот в V в. до н. э. говорил о Египте. В глазах греческого историка страна пирамид в не меньшей степени оставалась покрыта тайной. Ибо, писал Геродот, «египтяне всегда ведут себя противоположным образом по сравнению с остальными народами». Женщины занимаются торговлей, тогда как мужчины сидят дома. Именно мужчины, а не женщины ткут, причем основу натягивают внизу станка, а не вверху, как в других странах. Женщины мочатся стоя, мужчины — присев на корточки и т. д. Примеры можно множить, но уже очевидно сходное восприятие описываемого тремя авторами.
Поскольку перечисляются разнородные вещи, не всегда выявляются собственно противоположности. Нередко речь идет просто о разнице или о наличии чего-то здесь и отсутствии там. Название сочинения Фройса содержит слова противоречия и различия. При этом именно он больше других авторов стремится вписать все контрасты в единую логику. Сравниваются сотни лаконично сформулированных параллелей, что подталкивает читателя к мысли, что речь идет не просто о разнице, а все представленные объекты полностью противоположны. Именно так Геродот, Фройс и Чемберлен сопоставляют обычаи экзотической цивилизации с обычаями своей собственной. За непонятностью чужого им очень хотелось видеть прозрачные отношения симметрии со своей культурой.
Но не признавали ли таким образом Геродот в отношении Египта, а Фройс и Чемберлен в отношении Японии, что эти цивилизации ни в чем не уступали их собственным? Симметрия сравнивает культуры и соединяет их. Они предстают одновременно похожими и разными, как симметричный образ нас самих в зеркале. Мы обнаруживаем себя в каждой детали, и тем не менее отражение совсем не тождественно нам. Путешественник убеждает себя, что особенности местной культуры противоположны его собственным, отвергает их и презирает. Но оказывается, что в реальности те и другие обычаи, напротив, идентичны. И такое взаимное отражение становится средством приручения чужого, разъяснения его самому себе.
Подчеркивая, что обыкновения египтян и обыкновения его соотечественников состоят в отношениях симметричной противоположности, Геродот помещал их на самом деле в одну плоскость и тем самым косвенно признавал огромное значение Египта для греков, как почитаемой древней цивилизации и хранителя эзотерического знания, которым можно воспользоваться.
Фройс и Чемберлен в другие времена перед лицом другой цивилизации обратились к такой же симметрии. И, сделав это, они (первый бессознательно, ибо было еще слишком рано, второй — более осознанно) дали нам возможность лучше понять глубокую причину, заставившую Европу примерно в середине XIX в. испытать чувство, что она вновь открывает себя в эстетических и поэтических образах, которые заимствовала в Японии.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И КУХНЯ
Я не стану много говорить о музыке, ибо не сумел бы объяснить то ощущение абсолютной оригинальности, которое возникает при прослушивании японской традиционной музыки, при том что — и именно это больше всего меня потрясает! — инструменты ее различаются по регионам, и д ля каждого из них существует своя собственная система нотации.
А изобразительные искусства?.. Позвольте мне сделать маленькое отступление и коснуться одного деликатного сюжета, по поводу которого нередко сердятся мои японские друзья. Я хочу поговорить о гравюрах, которые открыл для себя примерно в шестилетнем возрасте и к которым с тех пор не перестал испытывать страсть. Сколько раз мне приходилось слышать от японцев, что восторги мои относятся к вещам вульгарным, что это не есть истинное японское искусство, что подобные изображения примерно соответствуют уровню карикатур, помещаемых сегодня в «Фигаро» или «Экспресс»!
Иногда, впрочем, гнев смягчался… Так, однажды я нашел в довольно грязной лавочке Симонсэн в Киото триптих — причем совсем не древний, всего лишь эпохи Ансэй! — о существовании которого знал и которым имел основания интересоваться. Он принадлежал одному из учеников Хиросигэ, представлял битву рыб против овощей и имел некоторые американские параллели. Вообще-то тема эта (ируй гассэн) очень старая и относится к периоду Муромати. Сюжет приписывают великому министру и поэту по имени Исиэ Канэра, если я не ошибаюсь. Он прошел через века и отразился в середине XIX в. в популярных гравюрах гэтэмоно.
Второй раз это произошло, когда, находясь в Историографическом институте университета Токио, я запросил фонд народных картинок, относящихся к землетрясению 1855 г. в Эдо. К материалам этим обращались мало, и мне удалось найти документы, которые, видимо, не держал в руках К. Оуэханд. Тем не менее они значительно обогащают наше видение мифологии XIX в., связанной с землетрясениями.
Французы, со своей стороны, точно так же, если не больше, раздражаются банальностями в адрес братьев Гонкуров или импрессионистов. Однако в данном случае я хотел бы, напротив, оспорить расхожие представления. По-моему, в гравюрах XVIII–XIX вв. проявилось что-то очень глубокое в японском искусстве (прошу прощения, что говорю об этом в присутствии г-на Акиямы, который поправит мои глупости). Это что-то возникает в основных чертах, мне кажется, начиная с эпохи Хэйан в иллюстрациях к «Сутре лотоса». Оно проходит через школу Тоса и вспыхивает в трех восхитительных, так потрясших Андре Мальро портретах, которые приписывают Фудзиваре Таканобу. Это что-то совсем не китайское, независимое, характеризуемое сочетанием выразительного штриха и однородного чистого цвета. В эстампе, по моему мнению, эта независимость могла выразиться лучше, чем в любой другой технике, ибо гравюра на дереве по самой своей природе не может передать движения кисти, присущего, наоборот, китайской живописи.
Парадоксальный факт, что в Европе эта внутренняя свобода и автономное существование рисунка и цвета вызвали восторг импрессионистов, в собственном искусстве делавших прямо противоположное. Если бы они по-настоящему поняли японскую гравюру, она не вела бы к манере Моне, Писсаро или Сислея, а должна была бы скорее провоцировать возврат к Энгру. Вот у него мы находим тот самый дуализм штриха и цвета, который, впрочем, шокировал его современников.
Скажу еще несколько слов о кухне — прошу прощения, что опускаюсь до такой прозы. Вам, однако, известно, что мне приходилось изучать кухню и писать о ней. Я полагаю, что нет ничего более важного, чем способы, которыми человек физически осваивает и инкорпорирует мир природы. А кроме того, признаюсь, что испытал к японской кухне любовь с первого взгляда и два года назад ввел в мое повседневное питание водоросли и рис, приготовленные по всем японским правилам. И наконец, перепробовав в Японии все виды кухни от сансэй до кайсэки, я имел еще долгие и весьма плодотворные беседы с поварами.
И тут я опять прихожу к выводу, что имею дело с чем-то абсолютно оригинальным. Японская кухня, практически не употребляющая жиров, использующая природные продукты в чистом виде, а сочетание их предоставляющая потребителю, не имеет ничего общего с китайской.
Таким образом, я вижу, по крайней мере, две неизменных черты, проявляющиеся в изобразительном искусстве и в кухне. Прежде всего, это моральная и умственная гигиена, имеющая в виду простоту. Это изоляционизм, сепаратизм, ибо как изобразительное искусство чисто японской традиции, так и чисто японская кухня исключают перемешивание и подчеркивают базовые элементы. Позволю себе отметить — не знаю, справедливо или нет, — что разница между китайским и японским буддизмом состоит, в частности, в том, что в Китае разные школы сосуществуют в одном храме. В Японии же, начиная с XI в., появились храмы исключительно Тэндай или исключительно Сингон — нужно разделять то, что должно быть разделено. И кроме того, для японского духа характерна чрезвычайная экономия средств, противопоставляющая его тому, что много цитированный во время нашего коллоквиума мыслитель Мотоори Норинага называл «высокопарным китайским многословием». А экономия средств требует, чтобы каждый элемент приобретал множество значений, чтобы, например, вкус одного и того же продукта в блюдах различался по сезону, в зависимости от эстетической задачи, и еще нес в себе собственную уникальность.