Лукас Берфус «Сто дней»
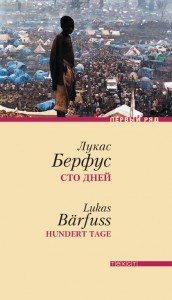 Так ли должен выглядеть человек, который надломлен физически и морально, спрашиваю я себя, сидя напротив него и видя краем глаза, как за окном неспешно разыгрывается метель. Снега здесь ждут давно, и вот теперь, после полудня, он опускается на зеленовато-бурые поля белым изящным кружевом. Трудно сказать, что надломилось в этом человеке — во всяком случае, не хребет. Он сидит прямо, слегка расслабившись, выбирает слова обдуманно и неторопливо. Лишь то, как он подносит чашку ко рту — медленным движением, иногда слишком медленным, — говорит, пожалуй, о глубоком душевном разладе. Возможно, он опасается, что достаточно одной пролитой капли, чтобы вывести его из равновесия. Но зачем строить догадки? Я знаю: он действительно внутренне надломлен и не может не быть таковым после всего, о чем он мне рассказывает, и — что еще важнее — после всего, о чем умалчивает.
Так ли должен выглядеть человек, который надломлен физически и морально, спрашиваю я себя, сидя напротив него и видя краем глаза, как за окном неспешно разыгрывается метель. Снега здесь ждут давно, и вот теперь, после полудня, он опускается на зеленовато-бурые поля белым изящным кружевом. Трудно сказать, что надломилось в этом человеке — во всяком случае, не хребет. Он сидит прямо, слегка расслабившись, выбирает слова обдуманно и неторопливо. Лишь то, как он подносит чашку ко рту — медленным движением, иногда слишком медленным, — говорит, пожалуй, о глубоком душевном разладе. Возможно, он опасается, что достаточно одной пролитой капли, чтобы вывести его из равновесия. Но зачем строить догадки? Я знаю: он действительно внутренне надломлен и не может не быть таковым после всего, о чем он мне рассказывает, и — что еще важнее — после всего, о чем умалчивает.
Временами он прерывает свой рассказ, нередко — на полуслове. Я вижу по его глазам, как он вспоминает, только вспоминает и ничего не говорит: может быть, потому, что в данный момент у него нет слов, или он еще не нашел их, или, скорее всего, не хочет найти. Похоже, глаза его следуют за событиями — за тем, что происходило и случилось в особняке Амсар, где он провел те сто дней. Больше всего в этой истории удивляет то, что героем ее оказался именно он — человек, которому, казалось, не было суждено пережить что-либо выходящее за рамки обычных людских несчастий: скверный развод, тяжелую болезнь или — худшее из такого рода бедствий — пожар в родном доме. И уж конечно не было суждено угодить в эпицентр одного из преступлений века. Трудно, очень трудно поверить, что героем этой истории стал человек по имени Давид Холь, с которым мы вместе ходили в школу и в ком я и сегодня узнаю высокого мальчика со слегка отвислой нижней губой. Если его что-нибудь удивляло, то от нее, казалось, вот-вот оторвется ниточка слюны, чего, разумеется, никогда не случалось. Как не происходит этого и во время его рассказа. Просто губа эта была и остается чуть влажной, и по ней яснее, чем по иным губам, видно, что собой представляют губы — вывернутую наружу полость рта.
Он с ранних лет не был удальцом, никогда не ввязывался в ребячьи распри. И избегал этого не из трусости. Проделки его сверстников, испытывавших себя на храбрость, казались ему пустым занятием. Он все делал с умом, если не считать трех-четырех выходок, которые, из-за своей редкости, просто не укладывались в череду обычных озорных поступков. Вспоминали лишь последний случай: побледнев и подозрительно притихнув, Давид затем вдруг сильно покраснел и разразился проклятиями в адрес несправедливого мироустройства — в выражениях, которых от мальчика лет десяти — двенадцати трудно было ожидать. В нем таилось, мягко говоря, обостренное чувство справедливости. Проявлялось оно, пожалуй, наперекор свойственной ему рассудительности и было, как мне казалось, не следствием сложившегося в раздумьях мировоззрения, а, скорее всего, чистой эмоцией, аффектом. Помню, он дал отлупить себя ватаге старшеклассников, услышав однажды, как они куражились над одним из соучеников. Он же считал такую манеру обсуждать кого-либо неприличной. После перемены сел за парту с окровавленным лицом, а когда учитель послал его умыться, он, не вставая, заявил, что ему не стыдно за свой разбитый нос.
Мы не могли знать, что подвигло Давида на геройский поступок, однако предполагали, что ему хотелось совершить что-то эффектное — и прежде всего произвести впечатление на девушек. И он достиг своей цели, что не могло нас не встревожить. Мы посчитали его ненормальным, но не сумасшедшим. Возможно, именно эта черта его характера стала причиной того, что спустя годы он оказался в труднейшей ситуации, и я спрашиваю, считал ли он себя борцом за справедливость. Улыбнувшись, он отпивает глоток кофе, а потом отвечает так, словно когда-то верил в летающие блюдца или в существование Атлантиды.
Я верил в возможность делать добро, хотел помогать людям, как этого хотели все сотрудники дирекции. Мы стремились вытащить из нищеты отдельного человека и в то же время хоть чуть-чуть улучшить жизнь всего человечества. Под развитием мы понимали не только развитие экономики, постройку дорог, разведение лесов. Важно было воспитать в наших подопечных чувство всеобщей справедливости.
Но это не объясняет, почему ты остался, решаюсь я возразить, почему ты не бежал вместе с другими, когда уже было ясно, что все кончится страшной резней.
Он смотрит в окно, за которым порхают снежинки, каждая из них — какая-то мысль, и говорит, что не был так уж в этом уверен. Кроме того, я хотел остаться поблизости от Агаты, но думаю иногда, продолжает он, с минуту помолчав, что все дело было в ботинках Поля. Походных ботинках — с красными шнурками, с мощной рифленкой, смазанных гуталином. Ботинках, способных нести тебя куда угодно. В них можно было подняться на самые высокие горы, пройти сквозь самые глубокие ущелья. Все годы Маленький Поль неизменно носил сандалии — прочные, на толстой подошве, но все же именно сандалии. Они как-то по-своему выражали, сколь велико его доверие к этой стране. Никто ничего не опасался, даже ноги ступали везде без опаски. И вот за три дня до эвакуации мы вдруг увидели его в походных ботинках. В ботинках, которые должны были вынести его из этой страны целым и невредимым. Мне стало стыдно при мысли, что все годы в его доме стояла эта пара отлично смазанных ботинок. На всякий случай! Между собой мы говорили, что предугадать такое развитие событий было невозможно, что гром грянул среди ясного неба. А у этого коротыша, моего прямого начальника, имелись походные ботинки. Он подготовился. Предвидел приближение грозы. Он знал, что однажды сандалиями ему не обойтись. И запасся парой походных ботинок. Я расценил это как предательство. Расчет, который выразился в выборе обуви, спланированность его действий в этом хаосе, который, замечу, лишь выглядел хаосом и должен был выглядеть таковым, в действительности же был адской машиной, рожденной сперва в головах, а затем сконструированной и мастерски приведенной в движение, — так вот, его предусмотрительность задела мою честь. Я не хотел ощущать себя трусом в добротных ботинках. И когда настал решающий момент, когда я, закрыв дверь особняка на засов, двинулся было к посольству, где меня уже ждали, — в этот момент я завернул за угол дома и спрятался за аварийным генератором. Ход моих мыслей выглядел так: колонна покинет Кигали в полдень и направится в сторону Бужумбуры. Мне нужно продержаться часа два-три. Ждать дольше им нельзя. Земля горит под ногами. С бутылкой воды и пачкой сырного крекера я затаился в нише, и некоторое время спустя кто-то пришел. Позвал меня, и тут мое присутствие едва не выдал сарыч. Опустившись на генератор, он всполошился и издал свое гнусавое «хиээ-хиээ», но я полулежал не шевелясь и через пару минут услышал удаляющиеся по гравию подъездной дорожки шаги. И вот я остался один. Разве не удивительно, сколь простым может быть способ скрыться от окружающего мира — сколь простым и эффективным?
Снег за окном падает теперь гуще, темные квадраты полей усеяны белыми пятнами, как пирог, который посыпают сахарной пудрой, когда он еще теплый. Неуютная местность, говорит Давид, но не хуже других. Все-таки люди здесь не наступают друг другу на ноги. Этими словами он отвечает на вопрос, который я давно задал себе: почему он поселился именно здесь, среди нагорий Юры с их суровым и влажным климатом, с морозными и снежными зимами. Мой визави умолкает, прежде чем продолжить свой рассказ. Несколько лет он бродил по стране, искал уголок, где мог бы жить в спокойствии, но дольше чем на полгода нигде не задерживался, перебирался из одной меблированной комнаты в другую, и теперь вот он здесь, в продольной, покрытой еловым лесом долине. Континентальные ветры дуют над ней, не вздымая холодный воздух, и воздух этот застаивается между склонами, точно внутри гигантского холодильника.
Дождавшись темноты, я прокрался в дом. Окна наших домов мы заколотили досками, тут я менять ничего не стал и решил посмотреть, чем я располагал. Припасов, полезных в такой ситуации, было немного. Воды — кот наплакал, несколько банок тушеной фасоли фирмы «Хайнц», полдюжины свечей, спички — вот и все. Но я не беспокоился. Надо было продержаться всего несколько дней, пока я не найду Агату. И тогда найдется все остальное. Агата должна убедиться, что она заблуждалась и что я не сбежал — вопреки ее предсказаниям. Однажды прилетит большой белый самолет, появится в небе, как ангел, и, забрав вас всех, улетит восвояси — вот так она говорила. Но уже после первой ночи у меня душа ушла в пятки. Я понял, что совершил ошибку, и не желал теперь ничего иного, кроме как исчезнуть из Кигали. Я знал о самолете омпании
«Эйр Франс», который должен был вывезти в следующее воскресенье последних европейцев. В нем буду сидеть и я. Вместе с Агатой. С моим садовником Теонестом я отправил ей записку на авеню Молодежи. Я паковал вещи, не сомневаясь, что она придет. Этот кошмар останется в нашей жизни эпизодом, над которым мы скоро будем смеяться. Но она не пришла. И я остался в особняке Амсар. Сто дней я провел там, и подчас мне кажется, что я все еще сижу в тех стенах, и меня опять охватывает страх, я слышу крики, стрельбу, разрывы гранат, опять чувствую голод и жажду.
Теонест более или менее регулярно снабжал меня водой, приносил немного вареного риса, а иной раз и бутылку пива. Ко мне он относился хорошо, при том что других не жаловал, но тогда я об этом не знал. Мы играли на веранде в туфи, он сообщал мне новости о событиях на фронте, о потоках беженцев, иногда пересказывал какие-нибудь слухи, к примеру о том, что Агата покинула город или ухаживает в военном лагере за ранеными — каждый раз это звучало по-иному. Достоверным было лишь то, что в один из первых дней апреля в дом, где проживала вся ее родня, попал снаряд. Никто, однако, не знал, был ли при этом кто-нибудь убит или ранен.
Среди руин ютились беженцы с севера, и если днем я поднимался на крышу, то мог видеть за болотами по берегам Ньябугого позиции повстанцев. Они наступали, приближаясь к столице. Правительственные войска контролировали лишь центральные холмы с казармами жандармерии, военным лагерем и министерствами. Никто не сомневался в том, что удержать Кигали они не смогут. Временное правительство покинуло столицу вскоре после того, как был сбит самолет президента, и защищать войскам было, в сущности, некого и нечего. Оборонялись они лишь с одной целью: чтобы отряды ополченцев могли продолжать свою работу.
И Давид умолкает на этом месте, окидывая взглядом свое жилище, словно в следующее мгновенье кто-то может показаться в сгущающихся сумерках.
Но у меня были другие проблемы. Случалось, что Теонест не появлялся целыми днями, а когда приходил, то обычно приносил немного риса в маленькой миске и горсть сушеных бобов. Я размачивал их в банке и ел прямо сырыми. Для сбора дождевой воды ставил кастрюли в сад, но выходить туда в те дни было противно. Более чем противно. Там пахло, как вокруг скотомогильника на Жаворонковом поле, помнишь?
Туда выбрасывали дохлых кошек и свозили коров, не переживших первого отела. Вот так же пахло в саду, только гораздо сильнее. Было такое ощущение, что ты сам сидишь в одной из ванн, куда в те годы складывали падаль. Поначалу меня рвало чуть ли не каждую минуту. Пахло даже в доме, и дождевую воду я пил через силу. Я слышал разговоры о трупах, плывших по Ньябаронго, и меня преследовала мысль, что вместе с испаряющейся речной водой в воздух поднимается и вода, из которой по большей части состоим и мы — люди. Небо проливалось трупной водой, и я много дал бы за возможность ее прокипятить.
Голод и жажда были не самой большой напастью — ею была темнота. Ровно в шесть часов вечера на землю разом опускалась ночь и накрывала меня, как нечто материальное, как черный платок или выплеснутый из ушата деготь. Ближайшим видимым источником света были звезды, и будь я путником, ищущим ночлега, то держался бы их — Проциона в созвездии Малого Пса, Рас Альхаге в созвездии Змееносца. Я не экономил, запас свечек вскоре иссяк, и я проводил ночи в полной темноте. Каждый вечер меня словно погружали в бочку с чернилами, и, когда через двенадцать часов — ни минутой раньше и ни минутой позже — всходило солнце, я оставался черным пятном, ходячей глыбой застывшего вара. Я не решался взглянуть в зеркало, боялся увидеть свое лицо с приставшей к нему тьмой — как с угольной пылью под глазами у горняков, выходящих после смены из забоя.
Мы не были созданы для этих ночей — я и все другие сотрудники дирекции. Мы родились в зоне сумерек. Нам нужны плавные переходы, требуется полумрак, мы зависим от ритмов светового излучения. Они сопровождают нашу жизнь — неярким солнцем в начале осени, резкими тенями, как в апреле. В наших широтах нельзя сказать наверняка, что сейчас — еще утро или, может быть, уже полдень. Когда начинается ночь и когда она кончается? Мы движемся в пределах смутного, нечеткого, там же, в двух градусах широты южнее экватора, солнце не дарит тебе ни грана свободы. Ночь падает, как гильотина, — без сумерек, лишь едва заметное пошатывание огненного шара на небе говорит о том, что дню вот-вот придет конец. Природа поворачивает выключатель, не давая тебе ни секунды отсрочки, не позволяя полусвету длиться и полминуты. С первого же мгновения царит непроглядная, бесспорная темнота. Она-то и изматывает европейцев. Порой мне казалось, будто я лежу в недрах земли, будто сижу в зловонном чудовище, рыгающем, громко выпускающем газы, а те, в свою очередь, исходят из проглоченных им людей. Шумы ночного боя меня не беспокоили — наоборот, они мне были знакомы. В конце концов мы с ними выросли, не так ли, говорит Давид и встает.
И я вспоминаю колонны танков, двигавшихся по шоссе в горы, грохот залпов из гаубиц, треск пулеметных очередей на полигоне. Если ты растешь в городе, где есть гарнизон, как это было с Давидом и со мной, то игрушки у тебя конечно же с оружейного склада. Например, батарейки к рации с напряжением в сто два вольта. Кусочком изоляционной ленты мы соединяли их парами и бросали в стайки гольянов. Рыбки всплывали брюшком вверх, мы доставали их из воды и кидали на берег, где они приходили в себя, беспомощно дергаясь, пока к серебристым брюшкам не прилипала галька. Мы не знали, что делать с уловом: гольяны были слишком мелкими и не годились ни для ухи, ни для жарки. Иногда карманными ножичками мы сдирали чешую, приоткрывали жабры, отсекали плавнички. Случалось, сдавливали так, что из тельца брызгали кишочки. А бывало, в порыве великодушия, бросали обратно в озеро.


