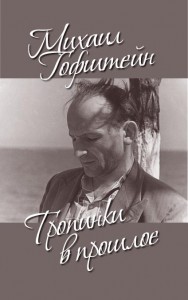Михаил Гофштейн. Тропинки в прошлое
1
Вперед-назад:
детство в Москве,
гены оптимистичной иронии
Не хочется пересказывать жизнь в хронологической последовательности, чтобы не упереться в вопрос: что дальше? А дальше — то, что за горизонтом, линия которого не должна бы приближаться слишком быстро. Но, даже избегая хронологии, все же о некоторых событиях детства и ранней юности рассказать придется. Мне кажется, они того заслуживают…
Осенью 1927 года, кажется в сентябре, родители, наняв ломового извозчика, на телеге перевезли свой скарб, главным предметом которого была ножная швейная машинка «Зингер», в маленькую комнатку в деревянном домишке. Везти пришлось довольно далеко: от Белорусского (тогда, кажется, он именовался Брестским) вокзала до Старозыковского переулка, что у Красноармейской улицы. Это была окраина города, в те времена довольно глухая. Переулок был не вымощен, потому по весне и осени покрывался непролазной грязью.
Впрочем, наши немногочисленные московские родичи, кляня непогоду и слякоть, все-таки добирались к нам ежегодно в день моего рождения, 19 апреля. Родители праздновали его всегда, да еще день своего бракосочетания, 30 июня. Не помню, чтобы отмечались какие-нибудь другие даты, хотя, может быть, память меня обманывает. Во всяком случае, ныне немногие здравствующие, довольно древние уже родственники помнят этот день и всегда меня поздравляют. А у меня перед глазами — маленький грязный переулок и наши гости, с трудом выдирающие галоши из густого месива.
Порой я задаю себе вопрос: почему эта наша московская, не такая уж близкая, родня, в основном тетки-дядьки матери и ее двоюродные братья-сестры, обязательно и непременно посещала нас в этот, как правило, непогожий день по поводу вряд ли для них столь уж существенному? Думаю, играла роль солидарность недавних провинциалов, желание как-то поддержать новичков, адаптирующихся к новым непростым условиям жизни. Впрочем, не помню ни одного случая, когда бы родители обратились за помощью к родственникам. Этого они не могли себе позволить, как бы трудно им ни было. Вот уж поистине «бедные, но гордые». Признаюсь, что эту особенность — неспособность хоть немного поступиться самолюбием, как говорится, спрятать его в карман в собственных же интересах — унаследовал и я: нет для меня ничего более болезненного, чем чувство ущемленного достоинства. Откуда это у выходцев из провинциальной ремесленной бедноты?
Я — юрист в первом поколении. Никто из моих родичей юриспруденцией не занимался, отец — рабочий человек, портной на той самой «пятой швейной фабрике», которую прославил Высоцкий. Отец матери — тоже мастеровой человек, шорник. Знает ли кто сегодня представителей этой профессии? А тогда шорник был самый уважаемый извозчиками человек, потому что шил хомуты и седла. Когда мы с матерью гостили летом в Могилеве начала тридцатых (это мой родной город, я там родился, а в Москву мы переехали, когда мне было четыре года), стоявшие рядком извозчики, завидев нас с дедом, снимали картузы: шорник идет.
Моему деду была свойственна ирония, он обладал хорошим чувством юмора. Хочу думать, что я что-то от него перенял.
Вот он стоит в своей обычной позе, опершись одним коленом на стул, и читает газету. Я спрашиваю деда:
— А почему ты не идешь в синагогу?
Он оборачивается, переспрашивает:
— Что?
Я повторяю.
— А!.. Я тебе объясню. Ты видишь, я росточка небольшого, да? Так вот, я скажу, что я там был, но меня не видели…
Этот маленький человек проявил когда-то огромную решимость: всех своих четверых сыновей, одного за другим, несмотря на робкие протесты их матери, отправил в Ленинград — учиться. И выросли инженеры. Ни одного он не оставил при себе, чтобы обучить ремеслу шорника. Видно, нелегко было ему всю жизнь, согнув спину, протыкать шилом жесткую кожу, и этой доли для своих детей он не желал. А заработок… Семья жила более чем скромно. Поневоле вспоминаются пропитанные горечью слова поэта: «Евреи много воруют, евреи в лавках торгуют…» И так далее. Да уж… Как сыновья учились, как разгружали вагоны, чтобы прокормиться, об этом стало известно много позже. Но выросли отличные специалисты. Один из них, инженер-путеец, участвовал в работе первой экспедиции по прокладке БАМа, заболел и умер в тайге. В его честь одну из станций на БАМе назвали Беленькая. Это была их фамилия.
Сестра отца тоже имела высшее образование, была фармацевтом и занимала серьезную должность, возглавляя аптекоуправление БССР. Жили они в Минске. Мужа ее, тоже весьма ответственного работника — начальника «Белэнерго», посадили. Когда началась война, она с двумя маленькими детьми оказалась в оккупации, а муж (к этому времени освобожденный из тюрьмы) был комиссаром в партизанском отряде. Он добился, чтобы за его женой и детьми прилетел самолет. И все шло бы как намечено, но за два дня до этого заболел младший ребенок и тащить его на руках за город было невозможно. Все они погибли в печах гетто…
Судьба братьев матери очень разная. Старший — способнейший человек, не захотел остаться в аспирантуре, хотя профессура предсказывала ему будущее в науке.
Он стал инженером-путейцем, дорос до должности начальника дистанции пути, выше которой только должность начальника дороги. А в знаменитом 1937 году его, как водилось, посадили. Прежде чем реабилитировали, он отсидел полных семнадцать лет. Уже освободившись, приехал на несколько дней в Москву, к сестре. Любопытно: человек не потерял интереса к происходящему и, увидев, что я «страдаю» над каким-то уголовным делом, в котором было совершенно непонятное мне заключение технической экспертизы, спросил, можно ли посмотреть само дело. Мы пошли в областной суд. Я взял в канцелярии дело. Посмотрев заключение эксперта, он долго смеялся. Сказал только: «Невежда…» И написал новое заключение на двух тетрадных страничках. Я приложил эти странички (исписанные, кстати, каллиграфическим почерком, который был присущ всем братьям) к своей надзорной жалобе. Через пару дней мне позвонил судья Верховного суда: «Как поговорить с инженером Беленьким?» Когда я сказал, что он уехал и будет жить в Могилеве, судья сокрушался: «Как жаль!», но приговор изменили.
Средний брат, как я уже упоминал, умер в тайге в 1931 году.
Следующий за ним по возрасту брат погиб при обороне Ленинграда, в ополчении.
И наконец, самый младший — известный инженер-мостовик, спроектировавший не один железнодорожный мост, пережил блокаду. Из Ленинграда его вывезли опухшим. Он бы погиб, если бы о нем не вспомнили. Вспомнили же потому, что срочно нужно было проектировать ветку к Ладоге, так что Дорога жизни спасла жизнь и ему. Память о войне осталась на долгие годы: когда он уезжал в командировку, у него был полный рюкзак буханок хлеба.
— Зачем это?
— А вдруг там не будет хлеба…
Он дожил до 96 лет и умер совсем недавно в здравом уме и твердой памяти. Говорил мне по телефону:
— Ты знаешь, я уже, как старичок, стал с палкой ходить в магазин…
— Зачем тебе палка?
— Ну, на всякий случай…
Мой дед со стороны отца был плотником. Дед-плотник был очень набожный человек, в отличие от деда-шорника. Еще во время Первой мировой войны он жил в городе Мозыре, на Полесье, в Белоруссии, очень близко от границы. В 1918 году там оказались немцы. Он был еще очень молод, но носил бороду, как все религиозные евреи. Немецкие солдаты поймали его, скрутили и подожгли бороду… Он, естественно, сохранил это в памяти.
Когда началась война, он с молодой женой (первая умерла много лет назад) и несколько его приятелей с супругами собрались в его доме и кинули жребий. Жребий выпал его жене. Она обложила дом соломой, облила керосином, подожгла и сама вбежала внутрь. Там все они с пением псалмов сгорели. Сожгли себя заживо. Их было около сорока человек. После войны это место оцепили и решили поставить памятник жертвам нацизма, но новые власти этого не одобрили. Мол, пахнет еврейским религиозным фанатизмом. Недавно мне сказали, что памятник все-таки будет установлен.
К СЛОВУ СКАЗАТЬ…
Я начал c рассказа о родных людях и о самом раннем детстве, «когда деревья были большими». Я действительно видел эти большие деревья: стоило только перейти через железнодорожные пути, и мы оказывались в настоящем лесу. Это был, оказывается, заказник Тимирязевской академии. На всю жизнь в памяти остался густой аромат его листвы. Я читал, что запахи запоминаются лучше всего. Наверное, это правда. Уже впоследствии, на фронте, оказавшись в лесах, где мы обычно укрывали свои огромные катюши, я по запахам леса явственно вспоминал эпизоды из раннего детства…