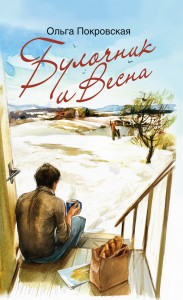Ольга Покровская «Булочник и Весна»
В студенческое время мне часто снился вкус хлеба, как некоторым безумцам снятся мелодии или стихи. Хлебное вдохновение накатывало на меня. Я чувствовал гул тепла, обрывки аромата, и вдруг, на долю секунды – вкус как озарение. Тогда я мчался на кухню и немедленно воплощал идею в хлеб. «Озарения» складывались затем в записную книжку — для неопределенного будущего, на что Петя остроумно заметил, что я пеку «в стол».
Оставшись без работы, я отыскал ту книжечку и почитывал её, как старый дневник. Понемногу в голове у меня проявилась маленькая булочная-пекарня — сказочное заведение, устойчивое к экономическим кризисам и переменчивым настроениям публики. Я прикинул бизнес-план и остатком трезвого разума понял: в условиях современной Москвы такой проект невозможен. Не потянем арендную плату, да и конкурентов окажется больше, чем покупателей.
Пока я бездельничал, приблизился Новый год, но зима всё не шла в Москву. Ноябрьский снег растаял, у нас во дворе на клумбах снова завиднелись оранжевые цветы. Но мама всё-таки развела зимний уют – стала зажигать по вечерам свечи и чуть ли не каждый день пекла какой-нибудь пирог. Я до сих пор в долгу у мамы за то, что в тот год она принудила нас с отцом поставить ёлку.
Снимая с антресолей игрушки, отец достал заодно пару послевоенных коробок из-под печенья. В их пожелтевшем картоне хранились бумаги — метрики, удостоверения, письма. Нашелся и мой любимый снимок прадеда. Я взял истёртую карточку: парень на лавочке рассеянно улыбался мне. Через ветки распускающейся берёзы светлело серое небо простой фотографии.
— Ну вот, – сказал отец. – Бабушка рассказывала, — у них там хорошо было. Горизонты, речка под холмом. А мы с тобой так и не съездили.
Никогда раньше мне не приходило в голову, что в деревню прадеда можно съездить. Это было так же нелепо, как если бы кто-нибудь предложил мне смотаться в Москву сорок пятого, на парад Победы.
По представлениям отца, Старая Весна располагалась едва ли не под Тверью и, вероятно, теперь уж вымерла. Я залез в интернет и за пять секунд отыскал на карте нашу деревню. От кольца её отделяло всего километров шестьдесят.
Вот была находка так находка! Глядя на карту, я мысленно обошел деревню со всех сторон — горсть домов на холме, лес и сельхоз поля. Сам факт, что былинное пространство Старой Весны обозначено на Яндекс-картах, обескуражил меня, но не убедил. На глубине сознания я допускал, что, приехав, увижу светлый рассыпчатый снег по пояс, не тронутый со времен войны. А может, выйду из машины в самое лето. Опушки в землянике, вдали погрохатывает, парит…
К любому чуду я был готов. А вот к чему готов я не был – так это встретить на месте деревни коттеджную застройку, или садовые товарищества, расползшиеся по окрестным лугам. На этот случай я решил так: будем считать, что настоящая Старая Весна ушла вместе с прадедом в лучший мир, а это — её внучка.
На разведку поехал один — субботним утром, с фотографией, как с визой в прошлое. Отравленным кольцом дополз до шоссе, превозмог толкучку пригорода и по очистившейся вдруг дороге домчал до нужного поворота. Минут десять прогнал по коридору леса и, вылетев, тормознул, как над обрывом: передо мной распахнулась холмистая местность, полная света и облаков. На высоком пригорке шевелились под ветром вместе с берёзами дома моей исторической родины, кое-где курился дымок.
Проехав ещё чуть-чуть, мимо обшарпанного монастырька, мимо сельского магазина и пожухшего луга, я оставил машину под холмом и пешком пошел в горку. Из перелеска, с правой руки обнявшего холм, дуло неурочной весной. Душистый этот ветер, купол приглушенного облаком света, безлюдье – всё разом ошеломило меня.
Я поднялся на холм и взглядом облетел горизонты. Достал сигареты и снова убрал в карман. Вот он – «мамонт»! Здесь и спущу на воду наш корабль! Точнее, не корабль, а дом, о котором мечтали с Майей. На воду, или на ветер.
Чуя в каламбуре пророчество, я двинулся осматривать деревню. У края развороченной дороги, как утлый катер, был пришвартован трактор без лобового стекла. На «дворнике» трепетала видавшая виды ленточка ко Дню Победы.
Улица с обеих сторон упиравшаяся в лес, походила на общую кухню. Дома смотрели друг другу в глаза. Ясно, что даже самые старые из них были построены после войны, но земля-то осталась прежней! Какой из участков наш? Где жил прадед?
Один дом приглянулся мне – серый, с крышей цвета еловой хвои, напоминающий бедную дворянскую дачу. Я подошел, хрустя замёрзшей глиной. Из-под калитки выскользнула кошка – больше никого.
Продвигаясь по улице, я поглядывал с холма, надеясь увидеть реку, про которую говорил отец, но ни реки, ни даже какого-нибудь высохшего ручейка или болотца, пока что не обнаружилось.
Зато на противоположном краю деревни я повстречал детей – мальчика лет семи и девочку-подростка с косами, торчащими из-под шапки. У детей был снегокат. На нем по твёрдой и не вязкой, отлично укатанной глине склона они съезжали к дороге. Не сказать, что скорость была высока, но определенное удовольствие получить было можно.
— Ребят, а где тут у вас речка? Тут прямо где-то, говорят, под холмом, рядом, – спросил я, когда они взобрались в гору.
— Речка? – строго переспросила девочка. – Нет, рядом у нас нету! Это дальше туда, — и махнула на поле, куда спускалась их глиняная горка. Я мельком глянул на укатанный спуск, и почувствовал шевеление зависти. Мне до смерти захотелось скатиться по этой глине – рухнуть в пожухший луг.
— Как, ничего скользит? – полюбопытствовал я.
Девочка посмотрела на меня снисходительно. Видно, обуявшая меня страсть каким-то образом стала слышна ей.
— Нате! – сказала она, протягивая мне верёвку снегоката.
Я сел и оттолкнулся. Прихваченная морозом глина скользила не то чтобы здорово, но ничего. Впереди над перелеском колыхалась стая птиц. Прекрасный иероглиф, черный по серой бумаге неба. К сожалению, я не успел разгадать его содержание, потому что налетел на кочку. В отличие от «ударов судьбы», это был настоящий, живой пинок – я рухнул в обмерзшую траву. Впрочем уже через миг встал и, отряхивая штаны, повез снегокат в горку.
Дети на холме терпеливо ждали, когда я верну им транспорт. О, что это был за мальчик! Кареглазый барчук в ушанке. Что за девочка! Лихая крестьянская дочь, такую не вдруг обидишь. Я поглядывал на них, силясь встретить родные черты. Почему бы нет? Если они коренные жители, почему бы между нами не быть родству?
— Еще будете кататься? – спросила девочка.
Но нет, я был удовлетворён, и отдал ей верёвку.
— А не знаете, кто вон в том доме живёт, сером, с зелёной крышей? – спросил я, уповая на малый шанс услышать в ответ свою фамилию.
— А я живу! – сказал мальчик.
Я кивнул и больше не расспрашивал. Мне вдруг стало спокойно. Всему своё время, потом.
7.
Не у одного меня перемены
Когда после поездки в Старую Весну я всерьёз задумался о воплощении наших с Майей юных мечтаний, первой мыслью, пришедшей мне в голову, было спросить совета у Пети. В отличие от меня, он умел отличить истинный плюс от мнимого и неплохо предсказывал будущее. «Это, брат не я – это музыка! – объяснял он. – Музыка промывает жизненный слух!»
Сказать по честному, я удивлялся, как в условиях Петиного кошмарного детства, среди выматывающих занятий, нажима амбициозной мамы и усмешек отца можно было сохранить хоть какую-то любовь к этому возвышенному предмету. Однако он смог, и в его любви было всё, что нужно, – и страсть, и святое чувство, и счастье, и от ворот поворот.
Я помнил его студенческие выступления. Он выходил, распахнутый и ясный, и казался мне устроителем высокого праздника, сродни Рождеству. Я гордился им и с грустью ждал момента, когда на Петю налетят импресарио и уволокут его от меня в мир звёзд.
Играл он ярко, ничего не боясь, до предела веря себе. Исполнительская искренность зашкаливала. Апогеем Петиной бескомпромиссности стала выходка в финале одного конкурса, когда уже на сцене он раздумал играть заявленный ранее атональный шедевр Веберна. «Зачем вообще нужен Веберн? Пусть будет Бах!» — объявил он публике, и в ослепительной тишине завёл на клавишах мистический разговор о хрупкости мирозданья и силе духа, о красоте, которую не спишешь в утиль. Я был там и чувствовал кожей, как нервная атмосфера конкурса гаснет и зал становится пространством храма.
Подобные случаи сформировали вокруг Пети круг экзальтированных поклонниц, для которых он вёл в Интернете милый блог, сообщая в нём, когда и где ему можно будет поаплодировать. Но в целом, эксцентричность, не подкреплённая «именем», сослужила начинающему музыканту дурную службу.
Окончив учёбу, Петя задержался в родных пенатах в качестве аспиранта и преподавателя. Эти сомнительные для пианиста успехи сочетались с нерегулярными выступлениями. Он время от времени где-то что-то играл, но всё это были малые искорки того величественного костра, на который он со страстью собирался взойти.
«Спортивная» составляющая пианистического искусства, ценимая Петей в юности, больше не интересовала его. Он выбирал вещи, в которые можно уйти, как в глубокую медитацию, и вынырнуть с новым знанием. Поклонницы жаловались, что он утратил былую фееричность. Петя злился и, обозвав их дурами, шел отвести душу на учениках.
Амплитуда его преподавательских методов была огромна. Если ученик оказывался ленив и не влюблён в предмет – Петя мазал его по стенке. Если талантлив и самоотвержен – доброта и терпение учителя не знала границ. Не удивительно, что отношение учеников к Петру Олеговичу колебалось от ненависти до обожания.
Несмотря на сомнения, навещавшие его периодически, мне казалось, он принял свою судьбу. Однако с некоторых пор в нём завелась заноза. Разговоры о музыке стали заканчиваться вспышками гнева. Появился и предмет зависти – выбившийся чуть ли не в звёзды сокурсник, некий Серж — музыкант с блестящей техникой и на редкость «тупой душой», как презрительно говорил о нём Петя.
Ко всему прочему, моему другу вдруг резко стало не хватать денег, ученики оказались сплошь лентяями, а выступления, когда-либо выпадавшие на его долю, он считал теперь унизительным «метанием бисера».
Что говорить, нынешний Петя был не в форме. Глупо было ждать от него прозорливости в вопросе с покупкой земли. И всё-таки я не мог не спросить его благословения.
Когда после новогодних праздников я позвонил ему, Петя «с порога» ошеломил меня новостью:
— Поздравь! У меня завтра последний урок. Больше никаких вундеркиндов! – объявил он. – Ни ногой больше в этот рассадник пафоса и нищеты! Хоть бы кто поджёг его! Прикинь, мне даже снилось – горят партитуры, но не сгорают, а просто ноты с них обсыпаются мелкой такой картечью! А сами листы становятся чистые, белые. И никакой тебе больше всемирной истории музыки… Папа-то мой был прав! Столько лет коту под хвост!
— Петь, может, тебе попозже перезвонить? – с трудом вклинился я в его песню.
— Ну а что попозже? – вздохнул он, успокаиваясь. – Мне теперь без разницы, когда. Пашу сутками! Я же теперь ещё у отца типа стажируюсь – вникаю в вопросы недвижимости. А ты вообще чего звонишь? Дело есть, или так?
Я помедлил, чувствуя, что Пете не до моей мечты о родине, и всё же признался:
— Хотел, чтобы ты съездил со мной в одно место. В деревню.
— В деревню? – удивился он. – Это ещё зачем?
— Хочу там землю купить.
— Ого! Я вижу, барометр пошел тебе на пользу! – с удовлетворением заметил Петя. — А что хоть за деревня?
Я объяснил, что речь идёт о Старой Весне, где жил мой прадед, тот, который с хлебом и мандолиной.
— Вот оно что, – проговорил Петя. – Ну так какие вопросы! Раз надо – значит съездим. Заезжай завтра за мной в школу, часикам к одиннадцати. У меня там как раз последнее занятие – и всё, вольная птица! Как раз даже и здорово – мотнёмся, переключусь. А то ещё впаду в сантименты, сам понимаешь…
Я люблю места, где учат музыке. Мне нравится их переменчивая «погода» — ветры струнных, капли клавишных, солнечный луч трубы. С удовольствием прислушиваясь, я прошел по коридорам и отыскал нужный кабинет.
Петя стоял у окна, в телефонном наушнике, грозно взявшись за вертикальную трубу отопления. Лицо его было напряжено и пятнисто, на лбу под тёмными волосами проблескивал пот.
— А не надо беспокоиться, выживу! Мне не впервой! – в ответ на чью-то реплику взвинчено проговорил он.
Я решил, что Петя поссорился с девушкой, и весьма удивился, когда, прощаясь, он назвал её Михал Глебычем.
— Петь, здорово! – приветствовал я его из дверей.
— А… Здравствуй! – обернулся он, чуть вздрогнув, и протянул нагретую о батарею ладонь. Костяшки на тыльной её стороне были заклеены пластырем.
— С кем болтал?
Петя сел к пианино, поднял крышку и, рассеянно поглядев на клавиши, опустил.
— Да Пажков…
— Что за Пажков? – спросил я, присаживаясь на соседний стул.
— Партнёр отца, — нехотя отозвался Петя и, помолчав пяток секунд, вспыхнул. — Вот не пойму я человека! Рвёт землю крупными клоками, ставит на ней всякую развлекуху – фитнесы, спа-отели. В общем, банальнейший мешок с миллионами. Но при этом какая-то у него страсть к человеку! – Петя умолк на миг и недоумённо покачал головой. – Жертвы свои обихаживает, представляешь? Если грабанул кого мимоходом – навещает потом, о здоровье спрашивает. Бабулька звонит в компанию с претензией, что рощу там где-то срубили, так он первый вопит: дайте я! Дайте мне! И сам с ней объясняется, хихикает. Нравится ему!
— А тебе-то до него что?
— А то, брат, что я у него работать буду! – сказал Петя. – Он теперь в Подмосковье строит, с отцом у них появились точки пересечения. И, прикинь, отцу хватило мозгов ляпнуть, что я пианист. Ну, у Михал Глебыча полный восторг. А-ха-ха! О-хо-хо! Что да как, да где учился! Я, говорит, сам однажды чуть виолончелистом не стал! Бросай, мол, Петька, эту лабуду, я из тебя человека сделаю! Видишь, руку об его зубы ссадил! – и Петя кивнул на пластырь.
Слегка оторопев, я уставился на заклеенный кулак.
— Да не бойся. Все живы! Он меня позвал типа поговорить о будущей службе. Я, в общем, неплохо был подготовлен, папа меня натаскал. Ну, наврал, конечно, с три короба. Обсудили. И вдруг Пажков говорит: я, Петр Олегович, очень уважаю хорошую музыку, и разбираюсь. Жалко, нет у меня в этом вопросе соратников – одни примитивные субъекты вокруг. Я, говорит, инструмент куплю нам в офис, будешь мне по праздникам и в будни слух услаждать! Ну, я, естественно, подумал, он шутит. А потом чувствую: даже если это и шутка, она меня унижает! Отвечаю: нет, Михал Глебыч, вряд ли. Я вот так вот, ради услаждения, играть не люблю. А он давай со мной жалованье обсуждать, нолики накручивать! Сыплет бредовыми суммами и ржет!
— Классические с тобой, Петрович, происходят сюжеты, — заметил я.
— Это точно! – кивнул Петя и, машинально взяв с пианино ручку, зубами снял колпачок. На подоконнике, я заметил, у него уже валялось три таких же, «съеденных» вдрызг. – Так вот я зверею потихоньку, а он хихикает. Ты, говорит, Пётр Олегович, ну просто герой изящной словесности! Гордая невинность!
— А ты сразу и в зубы!
— Что значит, сразу? А я что, по-твоему должен терпеть, как всякая сволочь надо мной ржет и по щеке треплет? Да мы так, самую малость… — остывая, прибавил Петя. — Его, к тому же, этим не проймёшь. Утёрся и кричит охраннику: мол, сфоткай меня с пораненным господином Вражиным! Будешь, говорит, у меня в архиве. Может, когда и дойдут до тебя руки.
— А сейчас чего звонил?
— Переживает, как рука, не нагноилась ли. А то, говорит, у меня слюна ядовитая. Смотри, говорит, лечись, а то чем играть мне будешь?
— Может, у него психическое заболевание? – спросил я.
Но Петя качнул головой и, неожиданно бодро на меня поглядев, произнёс:
– Да он на самом деле классный мужик! Наполеон! Забавный такой – мелкий, рыжий, и при этом мощь колоссальная! Личность, понимаешь? Не такой, как все. Хочу у него учиться.
— Как обзавестись ядовитой слюной? Ну, вперёд!
Петя поднял крышку пианино, беззвучно тронул клавиши и, как и в прошлый раз, тут же закрыл. Сверху поставил локоть. Его карие глаза, упёршись в меня, стали угольными.
— Знаешь, у меня никогда не было денег. У тебя были. У меня – нет. Видал, на каком убожестве я езжу? За отцом донашиваю. Вместо всей этой нищей лирики давно надо было поставить цель. Просто взять и поставить.
Тут как-то долго, надсадно, он посмотрел в окно на застроенный горизонт — как будто и правда решил водрузить свою цель на крышу дальней высотки.
В это время девочка лет пятнадцати, бледненькая, с гимназическими косами по плечам, глянула в кабинет и замерла, не решаясь войти.
— Наташ, чего забыла? – обернувшись, спросил Петя.
Девочка помедлила и, уронив неслышное «извините», отшатнулась в коридор. Дверь закрылась.
— Шантажистка! – сказал Петя, нахмурившись. – Музыку она бросит! Что я теперь, из-за таких всю жизнь свою молодую должен здесь промусолить?
Он мотнул головой и, решительно поднявшись, сгрёб с подоконника огрызки ручек, наушник и телефон. Оглядел кабинет – не забыл ли чего? Солнце в окне высветило на полу белый квадрат.
— Ну что, поехали? – сказал он бодро.
По периметру расчищенного двора лежал снежок, нападавший за праздники, и не было ни души – за исключением большого рыжего пса в колтунах. Увидев Петю, пёс подошел и ткнулся носом в брючину.
— Тоже вот — ещё один! – сказал Петя. — Надоел ты мне, Михалыч! Ну что ты меня караулишь! Я тебя утром кормил? Иди, гуляй! Вот видишь, чего твориться? – обратился он ко мне. – Прямо оцепление выстроили – не сбежишь!
Мишка фыркнул и пошагал прочь, тряся шерстяными лохмотьями. А Петя обернулся на окна: в одном из них, перемешиваясь с работой флейтиста, гремел ручей фортепиано.
– Наташка Рахманинова чешет, — проговорил он, весь уходя в слух. — Куда ж она лепит! Там же лига!.. – И, вдруг опомнившись, быстро пошел к обочине, где стоял мой вполне замызганный – как раз для поездки в деревню — джип.