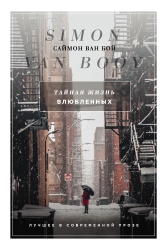Саймон Ван Бой «Тайная жизнь влюбленных». Сборник рассказов.
Ранний вечер. Дома выглядывают из зарослей, как из карманов. Машины неподвижны, их едва видно сквозь деревья, протянувшие руки во все стороны.
В старом деревянном доме дремлет моя жена. Усталый дом отзывается на каждое движение треском и скрипом.
Я стою на улице, не в силах идти дальше. Меня охватила странная тоска, которая одновременно разрушает мир и делает его совершенным. Я чувствую, что умер кто-то очень близкий, что у меня забрали Магду.
Жена долгое время ревновала меня к Магде, хотя они никогда не встречались.
Во дворе за несколько домов от нашего стоит старый автомобиль с просевшими дверцами и спущенными шинами. Стекла покрыты толстой коркой пыли. Лохмотья виниловой крыши трепещут на ветру, предвещая бурю. Дворники замерли посреди ветрового стекла; покрытые пылью, они напоминают две руки, торчащие из-под капюшона. На заднем сиденье целуются призраки. Через треснувшее окно просачиваются воспоминания, тают в высокой траве и прорастают полевыми цветами. Где-то в конце улицы тоскливо зевает раздвижная дверь.
Воздушным шариком вздувая кожу памяти, меня охватывает чувство, что Магда ушла.
В ветвях дерева над машиной висит целлофановый пакет, хватающий ртом ветер.
Мой отец удочерил польскую девочку Магду из Кракова, когда мне было семь. Мать к тому времени уже ушла от нас. Магда, высокая худышка с короткими, неровно подстриженными волосами и отрезанной по локоть левой рукой, вообще ее не знала.
Мы делили с ней мансарду маленького домика в Корнуолле. По воскресеньям вставали чуть свет и готовили завтрак папе, который занимался серфингом. Он плавал даже зимой, несмотря на туман и пронизывающий холод.
Иногда по утрам стояла такая темень и дул такой сильный ветер, что мы зажигали свечи и притворялись, что живем в пещере.
У моего отца появилась привычка плавать в шторм после того, как мама однажды решила, что хочет жить в Австралии со своим начальником и его детьми. Мне тогда было два года. Я ее почти не помню, но до сих пор влюблен в ее тень.
Поставив на стол хлеб и миску с вареными яйцами, мы с Магдой занимали наблюдательный пункт на лестнице, а когда на подъездной дорожке появлялись огни старого «Лендровера», мчались вниз и открывали дверь. Такой у нас был воскресный ритуал. Войдя в теплую кухню, отец смеялся над свечами и ерошил мне волосы соленой рукой. Затем отдавал Магде гидрокостюм, и она тащила его одной рукой в ванную, оставляя на ковре след от песка и морской воды.
Во время завтрака он рассказывал нам о море и о том, что видел на берегу. Однажды после сильного шторма на скалистый пляж вынесло американский самолет времен Второй мировой войны. После завтрака папа повез нас смотреть на него. Шел дикий ливень, и мы с Магдой влезли в мусорный мешок с дырками для лица, один на двоих. Фюзеляж самолета, лежащий на боку, привел нас в восхищение. Из стеклянного купола торчали два пулемета. Папа сказал, что, наверное, крылья отвалились от удара о воду, и если будет правильный прилив, их тоже скоро вынесет на берег. Мы с Магдой хотели залезть в самолет, но папа произнес «нет» таким тоном, что мы сразу поняли: спорить бесполезно. Магда предложила произнести молитву морю, и папа сказал, что и мечтать не мог о такой добросердечной дочери. Это был один из лучших дней в моей жизни.
Бывало, что когда папа рассказывал нам за завтраком свои истории, у него из носа капала соленая вода.
Когда Магда только приехала из Польши и могла выражать свои мысли разве что глазами, мы часто гуляли с ней по деревне и всегда садились на одну и ту же скамейку посмотреть, как старички играют в шары. Впоследствии, выучив английский, она рассказала мне, что про себя называла эту скамейку «небо». Небеса.
Долгими летними вечерами, когда дневной свет, розовея от заходящего солнца, постепенно уступал место сумеркам, я часто размышлял о том, как уживаются с нами неживые предметы. С какой чудесной синхронностью бездушные вещи не только заполняют мгновения, но и путешествуют во времени, словно одновременно с нами возносятся на вершину волны, стремящейся вперед, в неизведанное.
Позже, на той же самой скамейке, когда нам исполнилось по восемнадцать лет, я рассказал Магде о тайне неживых предметов, которые двигаются с нами сквозь время с той же скоростью. Она тихонько засмеялась и сказала, что это мы иногда отстаем, привязанные к воспоминаниям. Она сказала, что именно поэтому любит наблюдать за старичками в белом, играющими в шары, ведь они ускользнули от времени и вознеслись над прошлым.
Нам предстояла разлука.
Сидя на скамейке, с которой мы сроднились за двенадцать лет, я понял, что у нас отнимают что-то важное. Мы находились на границе взросления. Я уезжал в Америку – получил стипендию для серферов в калифорнийском колледже, а она – в престижный Варшавский университет.
Я и сейчас представляю себе Польшу по ее письмам – аисты на крышах, мятная матовость майорана, острый тминный дух Карпатских гор.
По молчанию на той скамейке я понял, что больше никогда не увижу Магду, а если и увижу, мы слишком изменимся, чтобы понимать друг друга. Не произнеся ни слова, мы согласились, что каждый должен идти своей дорогой – единственный способ двигаться дальше. Но мне очень сильно не хватало Магды, как отцу не хватало матери, а самой Магде – ее руки.
Теперь, когда я живу в Калифорнии со своей женой, я думаю, что жить без того, кого любишь, все равно что жить возле горы, с вершины которой тебе машет рукой этот человек – маленькое пятнышко вдали.
Я помню, как мы пили на той скамейке теплую колу из бутылки, две родственных души, готовых броситься в собственную жизнь. Когда мы ощутим под ногами дно? В Калифорнийском университете мы проходили древнегреческую поэму «Одиссея». Меня заинтересовало это произведение, потому что оно не только о море, а еще и о любви и понимании. Мой отец – Одиссей, да и мать тоже. Каждый из нас – Одиссей. Все моря ведут к тому или иному дому. Каждый путь по-своему верен. А Магда исчезла с лица земли.
Сейчас в Америке, где я построил свой дом, осень – время воспоминаний. Старая машина клонится набок. Она тоже заблудилась во времени. У нее нет опознавательных знаков. Она машина только по названию, а по сути – лишь вздох.
Небо начинает темнеть. Я представляю себе жену, спящую в доме. Из кухонного окна льется на клумбу яркий свет.
Много лет назад, когда мы с отцом впервые увидели Магду в аэропорту, она прижимала к себе голую безволосую куклу. Мой папа не ожидал увидеть худенькую, как палка, однорукую девочку. Он поднял ее на руки и прошептал что-то ей на ухо. Когда мы ехали домой по дороге, вьющейся вдоль береговых скал, Магда переводила взгляд с окружающего пейзажа на меня, словно считала, что это все придумал я – специально для нее.
Только став взрослым, я понял, как страшно ей было. Маленьким беззащитным ребенком она оказалась среди чужих людей, не зная языка. Со временем страх уступил место доверию, и мы стали семьей. Если человека любят, он обретает силу всех морей.
Магда никогда не рассказывала о том, что пережила. Удивительно, что она вообще туда вернулась. Благодаря любви ее шрамы превратились в реки. Некоторые люди всю жизнь разбивают стены, чтобы выйти на свободу. А другие стены строят. Однажды папа нашел Магду горько плачущей под тысячелетним дубом недалеко от нашего дома. Она собрала свой детский чемоданчик, но все его содержимое высыпалось ей под ноги. Папа отнес ее в дом, где она продолжала безутешно рыдать.
В тот вечер Магда призналась, почему решила уйти от нас. Она боялась, что если папа утонет или исчезну я, она останется одна. Она думала, что если убежит, по ней хотя бы будут скучать.
Через несколько дней папа повез ее в Лондон, до которого было пять часов езды, познакомить с родственниками, чтобы она не чувствовала себя такой одинокой. Вечером, когда они вернулись из поездки, мы лежали с ней в постели, а между нами – безволосая кукла. С трудом подбирая слова, Магда рассказала, что в лондонском зоопарке папа отвел ее к клетке с обезьянами и представил как Магду Непобедимую.
А еще она говорила, что иногда чувствует отсутствующую часть руки. Значит, мы можем чувствовать то, чего на самом деле нет.
Возможно, любовь – то же самое, и все мы – части одного неосязаемого тела. Я вижу ее черные волосы на подушке и помню, как поцеловал в плечо. Она уже спала.
Ночь выпускает на волю море чувств. Хорошо, что мы в это время спим. Ночь объясняет день и переосмысливает его. Мы ничего не значим для времени, но друг для друга мы – все. Мир – роскошный цветущий сад, полный случайных встреч и необъяснимых разлук.
Магда все больше беспокоилась, что папа утонет в шторм, и однажды он разбудил нас еще до рассвета. Мы специальной краской написали на его доске для серфинга наши имена. Когда мы снова уплывали в сон – под гудение «Лендровера» и стук дождя, – нас связывала с ним пуповина из луча света под дверью нашей спальни.
После того как Магда уехала в Польшу, она в течение двух лет писала отцу каждую неделю и перестала только после возвращения из Австралии моей матери. Однажды та просто появилась на пороге – загорелая, с сигаретой в зубах. Я уже жил в Америке, но знаю, что папа принял ее, не требуя объяснений. Ее не было восемнадцать лет. Она страшно удивилась, что я уехал, что я вообще вырос.
В сумеречном свете уходящего дня я открываю дверцу брошенного автомобиля и слышу в мелодии петель певучий голос Магды. Сажусь в машину. Трогаю скелет руля, и рессоры благодарно отзываются на вес моего тела. Я здесь, я живу в этом мгновении, но я вечно буду сидеть на той скамейке с Магдой или смотреть, как она чистит горячие вареные яйца.
После ее отъезда в Польшу мы больше не виделись. По письмам, которые писала Магда первые два года, чувствовалось, что она счастлива. Однажды она даже нарисовала на конверте аиста.
Я знаю: ей нас не хватало. Мы с папой подарили ей способность жить, распутали узел. А теперь она ушла. Я не хочу гадать, как это случилось. Все равно узнаю утром из телефонного разговора с отцом. Интересно, встретила ли она по дороге мою спящую жену.
Тысячи людей встречали меня лишь раз в жизни, но они несут память обо мне и обо всех остальных, словно песок на пляже, придавая форму всему живущему.
Когда я возвращаюсь с прогулки, уже поздно, и я тону в лунном свете. В небе зреют горячие капли дождя, готовясь пролиться на землю. Моя жена сидит на садовых качелях с косячком в зубах. Дым карабкается на крышу, вьется над забытой пустой машиной и полевыми цветами, отдаваясь неизвестности.
Я подхожу к жене. Начинается дождь. Она смотрит на меня, наверное, точно так же, как мать смотрела на отца, и хлопает по подушке рядом с собой. Сиденье принимает вес моего тела, и мы оба начинаем безудержно хохотать, словно одновременно поняли, что все – прекрасный обман.