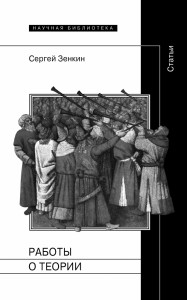Сергей Зенкин. Работы о теории
Не будучи ни теоретиком кино, ни даже большим его знатоком, я попытаюсь дать предварительные ответы на два вопроса: во-первых, как следует понимать сам термин «фантастика» на современном этапе исследований и, во-вторых, каковы возможности возникновения обозначаемого им явления в кино, учитывая специфику этого вида искусства.
Отправным пунктом станет фантастика в литературе, поскольку именно литературная теория в 1970-е годы сделала важные шаги к прояснению этого понятия. В 1970 году вышла монография Цветана Тодорова «Введение в фантастическую литературу» — попытка определить литературную фантастику с точки зрения структуральной поэтики. Тодоров отказался от всякой натурализации фантастики и стал трактовать это понятие, обычно связываемое с референтными отношениями (в большинстве языков слово «фантастика» служит антонимом слова «реальность», то есть структурируется по семантической оси «правда — ложь»), в чисто семиотических категориях, как особый, проблематичный случай рецепции, когда читатель сталкивается с двойственной кодировкой текста и не может разрешить колебание между двумя несовместимыми кодами, двумя системами правдоподобия — «естественной» и «сверхъестественной»; в свою очередь, такое плавающее, нестабильное правдоподобие мотивируется сомнением в онтологической природе упоминаемых событий и объектов (реальность? иллюзия? Проявление иной, потусторонней «реальности»?). Данную ситуацию Тодоров выделил как конститутивный признак определенного литературного жанра — а именно «фантастического» жанра, отличного от таких смежных «жанров», как «странное» или «чудесное».
Семиотическая концепция фантастики у Тодорова оказалась
хоть и не бесспорной, но плодотворной идеей, получившей дальнейшую разработку у других исследователей1; напротив, его определение фантастики как жанра требует серьезных оговорок. В самом деле, введенные исследователем «литературные жанры» вроде «фантастического» или «странного» явно относятся к какому-то иному ряду понятий, чем традиционные жанры вроде «басни»,
«комедии» или «элегии»; кроме того, остается без ответа вопрос о том, жанром чего именно они являются. В самом деле, «фантастическое» колебание может, как признает сам Тодоров, распространяться лишь на некоторую часть литературного текста (отдельный эпизод или вставной рассказ), до и после которой действует однозначная система «чудесного» или же «реалистического» правдоподобия: скажем, события, казавшиеся сверхъестественными, получают затем нормально-бытовое объяснение. Тогда жанр текста в целом (скажем, «роман») будет определяться уже не этим частным эпизодом, а «фантастика» окажется самое большее жанром дискурса, используемого в данном сегменте текста. По-видимому, точнее будет считать литературную фантастику не жанром, а эффектом текста, который в одних случаях может носить частный, точечно-эпизодический характер, а в других становиться определяющим, доминантным признаком всего текста, формируя его особую жанровую принадлежность (например, к жанру «фантастической новеллы»).
Эта проблема связана с сильной и глубокой философской идеей, на которую опирается тодоровская концепция и корни которой можно найти у В.С. Соловьева, чье предисловие к повести А.К. Толстого «Упырь» (1899) Тодоров знал по короткой цитате в «Теории литературы» Б.В. Томашевского. Приведем другую часть рассуждений Соловьева, по-видимому, оставшуюся неизвестной Тодорову, но поддерживающую его концепцию фантастики:
Отдельных, обособленных явлений фантастического не бывает, бывают только реальные явления, но иногда выступает яснее обыкновенного иная, более существенная и важная, связь и смысл этих явлений. Никто не станет читать вашей фантастической поэмы, если в ней рассказывается, что в вашу комнату внезапно влетел шестикрылый ангел и поднес вам прекрасное золотое пальто с алмазными пуговицами. Ясно, что и в самом фантастическом рассказе пальто должно делаться из обыкновенного материала и приноситься не ангелом, а портным, — и лишь от сложной связи этого явления с другими происшествиями может возникнуть тот загадочный или таинственный смысл, какого они в отдельности не имеют. Как одними и теми же буквами мы пишем речи и высокого и «подлого» штиля, так одинакие явления при различном контексте жизни могут иметь и самое обыкновенное, поверхностное, и самое глубокое значение. Так оно есть в действительности, так должно быть и в поэзии.
Идея Соловьева, формулирующая принцип эстетики (нео)романтического «двоемирия», то есть двойной детерминированности фактов, имеющих реальный и мистический смысл, может быть перетолкована в терминах теории текста — что и сделал Тодоров. «Отдельных, обособленных явлений фантастического не бывает»: фантастика — это система двойной кодировки, с необходимостью охватывающая все элементы текста, по крайней мере на определенном его отрезке.
Отчасти сходную идею высказывал Жан-Поль Сартр, также не знавший текста Соловьева (зато его собственную статью читал Тодоров) и имевший в виду не романтическую, а «модернистскую» фантастику в духе Кафки. Рецензируя роман Мориса Бланшо «Аминадав» (1942), Сартр писал:
Чтобы добиться фантастики, не является ни необходимым, ни достаточным изображать что-либо необычайное. Самое странное событие, если оно одиноко в мире, управляемом законами, само собой включается во всеобщий порядок. Если в вашем рассказе заговорит конь, я на какой-то момент сочту его заколдованным. Но если он будет и дальше говорить среди неизменных деревьев, на неизменной земле, то я признаю, что он обладает естественной возможностью говорить. Я буду видеть в нем уже не коня, а человека, замаскированного под коня. Напротив того, если вам удастся убедить меня, что этот конь фантастичен, — значит, деревья, земля, река тоже фантастичны, даже если вы ничего об этом не сказали. Фантастике нельзя выгородить какую-то область — или ее нет, или она распространяется на весь мир…
Идею невозможности «отдельных, обособленных явлений фантастического» Сартр мыслит иначе, чем Соловьев. Эффект фантастики изначально локализован, в мире (а значит, и в протяженности текста) есть привилегированные «фантастические» элементы, вроде говорящего коня, но они как бы излучают свое влияние, «распространяются на весь мир». Мир имеет неоднородную структуру, некоторые его участки выделены и воздействуют на другие. В таком эффекте выражается переживание сакрального, которое тоже, с одной стороны, четко отделено и отгорожено от профанного мира, а с другой стороны, обладает проникающей силой, способностью магически «заражать» окружающие предметы, области, существа.
Такую фантастику, «распространяющуюся на весь мир», соблазнительно истолковать как определенный жанр — ведь понятие жанра тоже характеризует все факты и параметры мира, изображаемого или создаваемого в произведении. Этот шаг и сделал Тодоров, отождествив «мир» с «текстом», сочтя «художественный мир» литературного произведения сводимым к комбинации кодов и не приняв в расчет его завершенности, образующей непроходимую границу между семиотической перспективой автора/читателя и экзистенциальной перспективой персонажа.
Действительно, участие персонажа, литературного героя в создании эффекта фантастики недооценивается у Тодорова. Его определение фантастики включает три основных условия: 1) читатель должен «испытывать колебания в выборе между естественным и сверхъестественным объяснением изображаемых событий», 2) «такие же колебания может испытывать и персонаж», 3) читатель «должен отказаться как от аллегорического, так и от “поэтического” толкования», — причем исследователь прямо оговаривает, что обязательными являются лишь первое и третье условия, второе же (о колебаниях персонажа) «может оказаться невыполненным». Для Тодорова функция персонажа при формировании «фантастической» ситуации — факультативная.
На самом деле персонаж играет капитальную роль в литературной фантастике, особенно «романтического» типа. Главное не то, что он может «испытывать колебания» в объяснении происшествий, — действительно, в некоторых текстах он может их и не испытывать, быть, например, безоглядным визионером или, наоборот, непоколебимым приверженцем «здравого смысла». Главное в том, что персонаж (или разные персонажи) непременно служит свидетелем, через восприятие которого до нас доводятся двусмысленные сообщения. Технически для этого служит либо варьирование лица, от которого ведется повествование (самая невероятная информация сообщается устами какого-то вторичного, не совсем компетентного рассказчика), либо внутренняя фокализация, то есть повествование от третьего лица, но «с точки зрения» того или иного персонажа, с опорой только на его восприятие и круг осведомленности. Автор фантастической истории никогда не излагает ее всецело «от себя» — иначе его абсолютный авторитет неизбежно разрушит, раздавит эффект колебания; для создания двусмысленности ему необходимы персонажи-свидетели, чужой взгляд и чужое слово. В этом смысле романтическая фантастика стала закономерным порождением и образцовой лабораторией литературы ХIХ века, озабоченной воссозданием в тексте чужой субъективности как самостоятельного, независимого от автора центра восприятия, мышления и речи.
Сделаем предварительные выводы из этого критического очерка теорий фантастики в литературе:
— фантастика в литературе представляет собой не жанр, а локальный текстуальный эффект, обусловленный феноменом плавающего правдоподобия и колебания в интерпретации, мотивируемых онтологической двойственностью событий и объектов;
— технически этот эффект создается варьированием повествовательной перспективы, которая модализуется согласно «точке зрения» тех или иных персонажей;
— в результате такой техники отдельный сверхъестественный факт, вместо того чтобы включаться в устойчивую систему правдоподобия (хотя бы как сакральное исключение из нормального круга фактов), излучает свое влияние на весь мир, где живут персонажи, делает его тотально «фантастичным» даже при отсутствии иных нарушений привычного порядка вещей.
Посмотрим теперь, насколько эти принципы, выработанные при анализе художественной литературы, применимы к кино.
На первый взгляд, они очень плохо к нему применимы, и по принципиальным причинам. В этом проявляется техническая специфика кинематографа как медиума и историческая специфика ХХ века как «модернистской» эпохи, сменившей «романтическую» и/или «позитивистскую» эпоху ХIХ века.
В самом деле, именно в кинематографе слово «фантастика» несомненно служит обозначением определенного жанра, в том усиленном значении, какое слово «жанр» имеет в кино: это жесткая, четко опознаваемая, серийно репродуцируемая схема массовой культуры. Фантастическое кино лишь отчасти выросло из романтических историй о духах, привидениях и двойниках; на его современный облик оказала решающее влияние другая традиция — комплекс мотивов, сюжетов и конструктивных принципов, которые называются «научной фантастикой». Это одна из отраслей возникшей в ХIХ веке массовой культуры, которая взяла на себя поддержание жанрового сознания в литературе, тогда как «высокая» литература последовательно размывала это сознание, ломая традиционные жанры и смешивая их в неопределенном единстве «романа». Не исключено, что именно устойчивая жанровая традиция литературной «научной фантастики», помимо прочего, подсказала Ц. Тодорову его решение осмыслять фантастику как «литературный жанр», а не отдельный эффект.
Еще важнее другое: для фантастического киножанра не специфичны те эффекты, которыми определялась фантастика в литературе. Они вообще достаточно редко встречаются в кино. Действительно, в кино практически невозможно колебание в интерпретации «правда или иллюзия?», потому что кинематограф с самого начала своей истории открыто представлял себя именно как иллюзию, аттракцион. Соответственно любые, самые невероятные происшествия — превращения вещей и живых существ, мгновенные перемещения в пространстве и времени, проявления персонажами нечеловеческой силы и ловкости и т.д. — всегда кажутся здесь не настоящими чудесами, а просто техническими фокусами, трюками и «гэгами» (ср. распространенное любопытство зрителей трюкового кино — «как это так снимают?» — совершенно чуждое потребителю фантастики), отсылающими к жанровым конвенциям разных видов комедии или боевика. С другой стороны, даже самые обыкновенные и повседневно знакомые предметы, например, многие машины и механизмы, да и просто бытовые вещи, будучи сняты в кино, благодаря непривычному ракурсу, масштабу, освещению и другим приемам выглядят чарующе странными — отсюда знаменитое понятие «фотогении», популярное в киноэстетике 1910—1920-х годов, не перестававшей удивляться тому, как кинематограф превращает самую заурядную натуру в чудо. В тех случаях, когда кинематограф заставляет зрителя колебаться в онтологической интерпретации сюжета, видеть в некотором персонаже то человека, то ангела («Теорема» П.П. Пазолини), то землянина, то инопланетянина («Планета К-пекс» Й. Софтли), переживать необычайную агрессивность птиц то как биологическую вспышку «бешенства», то как мистический «бич божий» («Птицы» А. Хичкока), — этот эффект обходится без каких-либо визуальных сверхъестественных мотивов: будь они введены в зрительный ряд, они своей бесспорной реальностью (то есть чудесностью, что в данном случае одно и то же) подавили бы всякое колебание.
В кино весьма затруднен указанный выше конститутивный прием фантастического письма — модализация повествовательной перспективы. Кино практически не знает субъективного диегезиса, не знает «несобственно прямой речи» в литературном значении этого термина; в нем все чудо, зато и все «по-настоящему», «реальное» и «воображаемое» изображаются одинаково. Об этом, кажется, впервые сказал в 1965 году Пьер Паоло Пазолини, а обобщенную формулировку дал в 1973-м Лотман в «Семиотике кино»:
…время зрительных искусств, сравнительно со словесными, бедно. Оно исключает прошедшее и будущее. Можно нарисовать на картине будущее время, но невозможно написать картину в будущем времени. С этим же связана бедность других глагольных категорий изобразительных искусств. Зрительно воспринимаемое действие возможно лишь в одном модусе — реальном. Все ирреальные наклонения: желательные, условные, запретительные, повелительные и пр., все формы косвенной и несобственно-прямой речи, диалогическое повествование со сложным переплетением точек зрения представляют для чисто изобразительных искусств трудности.
Известно, к каким искусственным средствам приходится прибегать в фильме, чтобы обозначить и отделить от обычного диегезиса переживаемое кем-либо из героев сновидение; правда, неразличимость яви и сна можно и, наоборот, обыгрывать, но такие онейрические фильмы (например, ряд фильмов Ф. Феллини — «8 Ѕ», «Джульетта и духи» или «Город женщин») не принято относить к фантастическому жанру. Даже когда в кино применяется техника «субъективной камеры», чей горизонт зрения имитирует ограниченное восприятие персонажа, этот эффект, хоть и может вызывать страх и ожидание ужасных открытий (саспенс), опять- таки не специфичен для «фантастического кино»: скажем, эпизод в «Психозе», когда героиня проникает в потайную комнату «нехорошего дома» и обнаруживает там сидящее в кресле истлевшее мертвое тело хозяйки, вполне соответствует лабиринтной эстетике готического романа, одного из главных жанров романтической фантастики, — однако фильм А. Хичкока тоже никто не относит к фантастическому жанру. Кинематограф ХХ века, в отличие от литературы ХIХ века, исповедует не эстетику свидетельства, а эстетику симуляции, объект в нем образуется как бы сам собой, независимо от сознания воспринимающего, мыслящего, рассказывающего субъекта.
Итак, в кино все окружающие человека предметы потенциально «чудесны», а персонаж не может выполнять функцию посредника, свидетельствующего о необычайных вещах и тем самым помещающего их на безопасной дистанции от зрителя. В такой почти тупиковой ситуации все же остается одна возможность для создания эффекта онтологической двойственности — сделать его средоточием сам персонаж, превратив его в чудовище. Этот мотив, возникший задолго до кино, но ставший фундаментальным для кинофантастики, широко эксплуатировался уже в ряде фильмов 1920—1930-х годов, и многие знаменитые персонажи-чудовища прославились именно благодаря кино, даже если некоторые из них изначально были придуманы писателями-романистами: чудовище Франкенштейна, Дракула, Кинг-Конг… Чудовище — по-латыни monstrum, «диво», «то, что показывают», — это такой персонаж, который не свидетельствует о мире сверхъестественного, а несет его отпечаток прямо на себе, в собственном визуальном облике; ему не обязательно обладать сознанием, но у него обязательно есть зримое тело, и мир сверхъестественного непосредственно, помимо знаковых процессов, вписан в это тело, миметически представлен в его искаженных чертах и несообразных жестах. Двойная экспликация событий в фантастической литературе заменяется в кино двойной идентичностью чудовища; вместо литературной проблемы чужого слова, с которым сталкивается рассказчик, выдвигается визуальная проблема чужого тела, которым одержим персонаж. Чудовище представляет собой двойственное, получеловеческое существо, в нем совмещены два тела, нормальное и «иное»; и хотя по сюжетной мотивировке это второе тело не обязательно соотносится с каким-либо определенным «иным миром» (например, Кинг-Конг — это просто аномально крупная обезьяна, похожая на человека не больше и не меньше любой другой обезьяны), но этот другой мир предполагается, тем более пугающий в силу своей предположительности и невнятности. Типологически он сопоставим с миром мифологизированной природы, природно- архаического бытия, а на уровне сюжетных мотивировок может более или менее произвольно связываться с геологической архаикой (Годзилла — гигантский реликтовый динозавр) или с рукотворно-магическим творением искусственных тел (Франкенштейн); важно лишь, чтобы их чудовищная телесность наглядно подчеркивалась.