Там, внутри. Илья Калинин
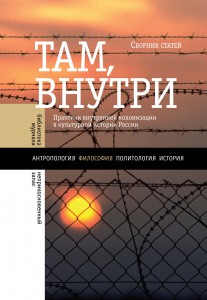 УГНЕТЕННЫЕ ДОЛЖНЫ ГОВОРИТЬ:
УГНЕТЕННЫЕ ДОЛЖНЫ ГОВОРИТЬ:
МАССОВЫЙ ПРИЗЫВ В ЛИТЕРАТУРУ
И ФОРМИРОВАНИЕ
СОВЕТСКОГО СУБЪЕКТА,
19202Е — НАЧАЛО 1930-Х ГОДОВ*
«Советская субъективность» и дискурсивные механизмы, стоящие за процессом ее становления, стали предметом интереса западной (и прежде всего американской) славистики начиная со второй половины 19902х годов. Этот интерес явился результатом особой исследовательской оптики, согласно которой советский эксперимент может быть прочитан как сложное, но внутренне единое пространство взаимодействия различного рода дискурсов (от резолюций партийных съездов до личных дневников обычных людей), перформативный эффект которых был направлен на формирование нового типа сознания и самоосознания. Пионеры этого направления — историки Игал Халфин и Йохен Хеллбек, сделавшие основным материалом своих исследований жанры, напрямую связанные с формированием собственного «я», — дневник и автобиографию. Концептуальной рамкой их работ (и работ других ученых, входящих в это направление) стал подход к политическим и социокультурным процессам 1920—19302х годов как к характерным модерным практикам субъективации, направленным на формирование «сознательных советских граждан», одновременно свободно и интенсивно трудящихся на благо новой социалистической отчизны. Практиками такой субъективации могли быть «…политическая агитация, образовательная политика и меры перевоспитания, направленные на “перековку” классово чуждых элементов», равно как и самостоятельное, интимное приобщение к новому социальному режиму через автобиографическое самонаблюдение и самоописание, дискурсивно синхронизирующие становление собственного «я» и становление новой идеологической реальности.
Однако проблема субъективации, реализуемой через приобщение к тому или иному жанру официального дискурса, ставит вопрос о языке, на котором осуществляется эта дискурсивная субъективация, точнее о том, кому принадлежит этот язык и насколько он прозрачен для самого говорящего как в ситуации, когда субъективируемый индивидуум является пассивным адресатом индоктринирующего дискурса, так и в ситуации, когда он представляется личностью, активно формирующей и «осознающей свою индивидуальную идентичность». Поэтому не менее значимым моментом в описании раннесоветской субъективности должна стать концептуализация разрыва, располагающегося между индивидом, обретающим речь, а вместе с ней и субъективность, и тем языком, который делает эту речь социально значимой. Недостаточно просто указать на интенсивность и распространенность в советском обществе 1920—1930-х годов дискурсивных и поведенческих практик «перелицовки самого себя» (self-fashioning), продемонстрировав структурную гомогенность официальных дискурсов пропаганды и приватных тактик формирования «я» и тем самым снимая или обходя вопрос о господстве и принуждении. Формирование «я» (процесс субъективации) должно быть описано не только исходя из того, кто выступает инстанцией этого конструирования (индивид, идеологические аппараты государства или его репрессивные органы), но и из того, что является дискурсивным материалом этого конструирования, как организовано пространство дискурса, внутри которого осуществляется это свободное формирование «я».
От 1968-го к 1918-му
Практики свободного и внутренне осознаваемого строительства собственного «я» еще более остро ставят вопрос о скрытой власти дискурса, — через приобщение к которому и осуществляется эта субъективация, — поскольку они отрицают внешне опознаваемый факт политического принуждения. Исторический случай формирования советского субъекта представляется одним из наиболее красноречивых в этом отношении, так как сам индивид, включенный в этот процесс, определял себя в качестве легитимного источника существующей власти. Таким образом, момент политического подчинения, совпадающий с моментом субъективации (так, как он описывался Мишелем Фуко или Луи Альтюссером), внешне исчезал, обретая себя в иных формах. Возникала внутренне парадоксальная ситуация: если прежде (до прихода к власти большевиков) индивид становился субъектом ровно в той степени, в какой он подчинялся властному порядку и таким образом мог говорить от лица власти, то теперь сама власть становилась Субъектом, голос которого возникал только в связи с тем, что он озвучивал волю бывших угнетенных, и в этом смысле утверждал себя как голос Субъекта, пребывающего в становлении, то есть в процессе субъективации.
Эта ситуация взаимного конституирования субъекта как одного из многих и единственного, абсолютного Субъекта, от лица которого происходит обращение к множеству индивидов, описывается Альтюссером через структуру двойного отражения. С одной стороны, абсолютный Субъект является функцией центрированного характера идеологии, он подчиняет субъектов, к которым он обращается, с другой — подчиненные ему субъекты созерцают в нем свой собственный образ. Таким образом, происходит взаимное узнавание между субъектами и Субъектом. Но если идеология делает эту структуру взаимной зависимости скрытой и не осознаваемой индивидом в процессе его идеологической субъективации, то революционная власть открыто ее манифестирует.
При этом социальное освобождение рабочих и крестьян вело не столько к их полноправному политическому представительству (поскольку у Советов власть была отнята диктатурой партии, а потом они — да и сама партия — стали декорацией для диктатуры ее аппарата), сколько к возможности (и даже инициируемой государством необходимости) их авторепрезентации в качестве исторических субъектов, формирующих свою идентичность через обретающее различные дискурсивные формы «живое творчество масс». И, какие бы
формы ни принимало это массовое творчество, оно в любом случае сталкивалось с проблемой артикуляции, внутри которой живое стремление к открывшейся возможности самоформирования и самовыражения встречалось с порядком дискурса, прежде недоступного массам.
В этом месте встречи индивида и дискурса проблемы, поставленные культурной революцией 19200х, пересекаются с постструктуралистской теорией, вызванной к жизни историческими процессами второй половины XX века, и теоретическими дискуссиями, последовавшими за 1968 годом. При этом речь идет не столько о сознательной рецепции европейскими интеллектуалами раннесоветского теоретического наследия, сколько о сходстве интеллектуальной реакции на социальные сдвиги, такие как революция 1917 года, антиколониальное движение после Второй мировой войны, события 1968 года.
Различие же состоит в том, что проблемы, занимавшие интеллектуалов 1960—1980-х годов, носили прежде всего описательно-критический характер, в то время как советские теоретики 1920-х полагали, что создают социальный праксис культурной революции, что требовало выработки конкретных нормативных процедур.
Одним из главных предметов теоретических дискуссий, последовавших за 1968 годом, стал выдвинутый Мишелем Фуко вопрос о нормализующей роли дискурса — о том регулирующем эффекте, действие которого распространяется не только на структуру сообщения, но и на самого говорящего. Смена оптики, осуществленная Фуко, позволила увидеть в дискурсе не только медиум власти, но власть как таковую, производящую идентичность тех, кто пользуется или получает доступ к использованию дискурса. Опознание этой дискурсивной власти позволило Фуко перевернуть традиционные представления об индивиде как об онтологическом источнике речи, «творческой силе, определяющей изначальное место письма», переопределив его как функцию самого высказывания, обеспечивающую грамматическое единство, концептуальную и стилистическую связность речи. Автор — или в терминологии Фуко «функция0автор» — описывается им как обратный эффект упорядочивания самого дискурса: «…то, что в индивиде обозначается как автор…, есть не более чем проекция некоторой обработки, которой подвергают тексты».
Таким образом, между автором и дискурсом устанавливаются зеркальные, хотя и несимметричные отношения: первый возникает как функция упорядочивания второго, при этом дискурс нуждается в говорящем, поскольку именно его фигура позволяет дискурсу раз за разом воспроизводить собственный порядок.
Одновременно с Фуко сходное теоретическое движение (хотя и исходящее из иной перспективы) совершил и Луи Альтюссер, описывая структурные отношения между субъектом и идеологией. Определяя эти отношения как процесс двойного конституирования, Альтюссер утверждал конституирующую роль категории субъекта для идеологии — но именно потому, что определяющей функцией самой идеологии является конституирование «конкретных индивидов в субъектов».
Позднее, во многом подводя итоги традиции (идущей от Маркса, Ницше и Фрейда) проблематизации субъекта как эффекта приложения различных сил, Джудит Батлер еще раз подчеркнет парадоксальность процесса субъективации, означающего «одновременно становление субъектом и процесс подчинения — человек поселяется в фигуре автономии, только становясь подчиненным власти». Иными словами, субъективация, возникающая как результат приобщения к дискурсу (Фуко) или идеологии (Альтюссер), есть такое производство субъекта, которое не просто односторонне воздействует на индивидуума, являясь формой господства, но и «запускает», приводит в действие субъекта как такового. Таким образом его дискурсивная и идеологическая идентичность оказывается одновременно и пространством его автономии, и формой его регуляции.
Постколониальная перспектива внесла в проработку этой проблематики новые акценты. Теперь диалектика становления субъекта, разворачивающаяся между индивидом и дискурсом, приобрела дополнительное отчуждающее измерение. Открытие этого нового измерения состояло в опознании принципиального разрыва между индивидом и дискурсом, через который и в котором осуществляется его субъективация. Иными словами, проблема субъективации состоит не только в том, что опосредующий ее дискурс изначально не принадлежит индивиду. Проблема состоит в том, что, когда речь идет о субъективации тех, кто находился в подчиненном положении, — независимо от форм этого подчинения, — дискурс, доступ к которому они получают, является носителем прежних отношений господства. Например, в России 19200х революционный дискурс, строящийся на разрыве с прошлым, довольно быстро столкнулся с необходимостью решения проблемы культурного наследия, сменив лозунг «сбросим прошлое с корабля современности» на призыв «учиться у классиков». В результате оказались воспроизведены не только отношения господства и
подчинения, но и их формы.
Таким образом, одним из ключевых вопросов, оказавшихся в основании постколониальных исследований, стал вопрос: «могут ли угнетенные говорить?». Этот вопрос прозвучал в знаменитой статье Гайатри Чакраворти Спивак16 и, как известно, был ею радикально проблематизирован. Теоретической основой такой проблематизации стал для Спивак известный фрагмент из «Восемнадцатого брюмера Луи Бонапарта», в котором Маркс мотивировал неспособность к независимой от посредников авторепрезентации через отсутствие классовой коллективной субъективности: «Поскольку между… крестьянами существует лишь местная связь, поскольку тождество их интересов не создает между ними никакой общности, никакой национальной связи, никакой политической организации, — они не образуют класса. Они поэтому неспособны защищать свои классовые интересы от своего собственного имени, будь то через посредство парламента или через посредство конвента. Они не могут представлять себя, их должны представлять другие». Однако сформулированная Марксом проблема глубже, чем вопрос политического представительства. По крайней мере она становится глубже благодаря интерпретации, предпринятой Г. Спивак.
Непосредственным толчком к предпринятому ею определению постколониального взгляда на эту проблему стал текст беседы между Мишелем Фуко и Жилем Делёзом, состоявшейся в 1972 году. Спивак подвергает последовательной критике их способ разговора о субъективности. Главный тезис Фуко и Делёза в этом тексте состоит в том, что конкретный опыт борьбы, приобретенный массами, позволяет им знать свою
ситуацию гораздо лучше интеллектуалов; более того, он позволяет им гораздо лучше интеллектуалов эту ситуацию выражать. Французские теоретики придают привилегированную ценность фигуре угнетенного как субъекта, который благодаря специфике своей включенности в производственные отношения способен создать условия, при которых он сможет говорить сам и от своего лица (минуя не только буржуазию, но и самих левых интеллектуалов, более того — в некотором смысле и сам дискурс). Как формулирует эту установку Делёз, «…представительства (в том числе и в символическом смысле «репрезентации», поскольку Делёз обыгрывает оба смысла этого понятия.— И.К.) больше нет, есть лишь действие».
Задача интеллектуалов в процессе создания этих условий заключается в отказе от теории как тотализирующего представления чужого опыта и в движении к инструментальной теории, производство которой было бы так же вписано в практику, как и физический труд рабочих. Такая инструментальная теория, с точки зрения Фуко и Делёза, должна привести к снятию принципиального разрыва между теорией и практикой, сделав этот новый тип теории орудием борьбы против всех видов власти, проявляющих себя в режимах «знания», «истины» и «дискурса».
Критика этой позиции со стороны Спивак разворачивается по нескольким направлениям. Во-первых, с ее точки зрения, Фуко и Делёз не учитывают роль идеологии в системе воспроизводства общественных производственных отношений — чему была посвящена статья Альтюссера, вышедшая, правда, всего за год до их диалога. Во-вторых, аксиологическое выдвижение конкретного опыта («того, что в действительности происходит» [Делёз]) приводит к блокированию разработки альтернативной идеологии и выводит за скобки возможность теоретического рассмотрения той гегемонии, которая существует в мировом разделении труда, что эмпирически закрепляет различие между «первым» и «третьим» мирами. И, наконец, самое главное: характерное для диалога «противопоставление абстрактной, “чистой” теории — конкретной, “прикладной” практике является слишком скоропалительным и легким». Этот последний упрек основан на недостаточно
отчетливом, с точки зрения Спивак, различении двух смыслов и двух перспектив понятия «репрезентация». Оно и будет нас прежде всего интересовать.
Разворачивая свою критику применительно к пространству социального угнетения, Спивак указывает на то, что проблема состоит не только в том, что угнетенные могут говорить лишь через опосредование политической репрезентации (представительства), но и в том, что их собственная речь упирается в стену символической репрезентации — дискурсивную опосредованность чужим языком. Это ограничение, в свою очередь, становится причиной фундаментального разрыва между социальной теорией, наделяющей фигуру угнетенного (будь то рабочие или представители «третьего мира») способностью «говорить и действовать самому за себя» (позиция Фуко и Делёза), и непосредственной социальной практикой, внутри которой сознание угнетенных, для того чтобы обрести классовую субъективность и устойчивую символическую позицию, должно оформиться через приобщение к господствующему дискурсивному режиму.
Логика отношений между языком и господством состоит в том, что угнетенные не просто лишены права на публичное политическое представительство, но лишены собственного языка, позволяющего им реально вступить в это право после того, как формально оно им предоставляется. Они оказываются в ситуации, когда предметная интенциональность их высказывания читается не исходя из ее собственной структуры, а в соответствии со структурой господствующего языка. А такое «чтение» нейтрализует их протест против установившейся власти. Поэтому приобщение к порядку дискурса и каналам социальной коммуникации приводит не столько к освобождению угнетенных, сколько к еще одному, символическому подчинению — на этот раз к подчинению правилам чужого языка и тем отношениям господства/угнетения, которые отложились в его регулятивных формах.
Обозначаемая таким образом дискурсивная ловушка заключается в том, что выход из социального или этнокультурного угнетения, которое в том числе и в лишении «возможности говорить о себе и от своего лица», обретается на пути подчинения порядку дискурса, гегемония над которым не принадлежит самим угнетенным. Таким образом, выход на сцену истории совпадает с процессом субъективации, смысл которого можно определить как приобщение к уже существующему порядку репрезентации, — к порядку, заявляющему о себе через уже существующую систему воспроизводства господства и подчинения (дискурс или идеологию).
Если угнетение состояло в молчаливом существовании по ту сторону дискурса и субъективности, то, казалось бы, эмансипирующая субъективация оборачивается обучением чужому языку, в пределах которого автономия становящегося субъекта синонимична обретению идентичности, оторванной от его непосредственной практики. Иначе говоря, дискурсивная субъективность «освобожденного» человека оказывается эффектом приобщения к тому языку, чья гегемония ранее обеспечивалась социальным господством, протест против которого и привел к политическому освобождению «обретающих голос» угнетенных. Возможна и иная перспектива: речь угнетенного или не находит адресата, или прочитывается как часть прежнего гегемониального дискурса.
Этот дискурсивный скепсис Спивак не раз подвергался критике (прежде всего с марксистских позиций), указывающей на то, что Спивак интересуется дискурсивной гегемонией (с характерными для нее процедурами исключения, псевдорепрезентацией и ложной интерпретацией речи угнетенных) больше, чем реальными условиями социального угнетения. Однако в нашем случае, когда проблема репрезентации возникает в постреволюционной ситуации освобождения от социального, политического и экономического гнета, эта критика может быть оставлена за скобками. Более того, специфика речевой субъективации «победившего пролетариата» и возникающие эффекты дискурсивного и политического насилия, равно как и наследование категорий доминирующего языка «старого режима», свидетельствуют о том, что проблема культурной гегемонии сохраняет свою актуальность и после победы угнетенных. Иными словами, даже после того, как экономическая нищета постепенно утрачивает свою остроту, а политическая дискриминация обрачивается против бывшего господствующего класса, его культурное и дискурсивное господство продолжает сохранять свою актуальность.
Актуальность этой аналитической перспективы применительно к историческому материалу дискуссий о путях и методах культурной революции, которую победивший пролетариат должен совершить, чтобы закрепить социальные завоевания Октября, состоит в том, что, как уже было сказано, перед советскими теоретиками и агентами культурной революции стояли проблемы, во многом сходные с теми, что позднее будут концептуализированы в интеллектуальных дискуссиях 1970—1980-х годов. Более того, типологическое сходство обнаруживается и на уровне используемых языков и топосов проблематизации. Поскольку разница между раннесоветскими и постструктуралистскими теориями заключается прежде всего в различии между задействованными модальностями—нормативной в первом случае и критической во втором, — возникает парадоксальная ситуация: то, что позднее будет вскрываться как аналитический эффект «обнажения приема», в 1920-е являлось непосредственным предметом дискуссий и объектом культурной политики.
Так, например, Мишель Фуко разрабатывает специальную критическую оптику, позволяющую увидеть за буржуазным политическим режимом символические формы дисциплинарной власти и дискурсивного принуждения. В ситуации же строительства советского общества вся эта обнаруживаемая Фуко археология власти-знания была выведена на поверхность в нормативных и нормализующих дискурсах, прямо направленных на дисциплинарное и дискурсивное производство нового субъекта. В то время как Фуко работает над обнаружением регулятивной механики дискурса, культурная политика 1920-х производит прескриптивный дискурс как таковой, причем его перформативная власть тематизирует порядок как на уровне письма, так и на уровне субъекта письма.
Наиболее развернутое приложение фуколдианской критики к практикам формирования советского субъекта можно найти в книге Олега Хархордина «Обличать и лицемерить». Однако мой тезис отличается от того анализа, который предпринимает О. Хархордин. Хархордин использует фуколдианский подход как методологическую рамку для своего описания механизмов формирования советского человека. Я же исхожу из того, что сама раннесоветская дискурсивная практика, связанная с механизмами субъективации, опиралась на интуиции, сходными с теми, что позднее были теоретически артикулированы Фуко. Более того, эти интуиции были тематизированы в рамках этого советского дискурса. Сам Фуко пытался вписать советский ГУЛАГ в репрессивные практики Просвещения, и хотя такая постановка проблемы была подвергнута критике, применение идей Фуко к советскому контексту может быть продуктивно. При этом я исхожу не из перспективы приложения фуколдианского описания дисциплинарных или репрессивных практик к советскому режиму, а из фуколдианской теории дискурса, которая обретает в советских 1920—1930-х годах неожиданный для нее самой претекст.
Те скрытые импликации власти, которые Фуко обнаруживал во внутренней грамматике дискурса, были непосредственным предметом субъективирующих дискурсов 1920-х: в первом случае мы имеем дело с аналитическим обнаружением власти дискурса, во втором — с ее открытой демонстрацией. Сокрытое и явное меняются местами. Если Фуко показывает, как дискурс осуществляет невидимую власть, нормализующую своего субъекта, то советские теоретики 1920-х пытались сознательно использовать дискурс как механизм просвещения и идеологической нормализации масс. Возникающая таким образом инверсия между речевой формой осуществления власти и властью как предметом самого сообщения является следствием характерного для раннесоветской эпохи утопизма. В этом смысле утопия всегда так или иначе обнажает скрытые условия воспроизводства идеологии, которой она диалектически противостоит.
Являясь антитезисом к описанному Фуко буржуазному (капиталистическому) режиму производства субъекта, советский дискурс тематизировал его скрытые формы, то есть политически и на практике делал то, что позднее уже в теоретическом плане будет делать постструктуралистская критика, обнажавшая связь между дискурсом, знанием и властью. Другое дело, что за конкурирующими друг с другом нормализаторскими дискурсами советской культурной революции стоит более глубокий уровень нормативности, являющийся условием их собственного производства и непрозрачный для субъектов, в это производство вовлеченных. Осознавая себя субъектами, распоряжающимися вверенным им нормализаторским дискурсом, агенты власти оказывались в той же мере функцией дискурса, в какой они воспринимали себя как его контролирующую инстанцию. Так от самих рапповских или лефовских теоретиков (да и от большевистских вождей) ускользал момент их собственной субъективации/подчинения, осуществлявшийся в ходе направляемого ими процесса нормализации масс, формирования фигуры рабочего писателя и шире — советского субъекта.
Утопический горизонт закономерно ускользал от тех, для кого он являлся социальной реальностью. Впрочем, именно в этом и заключалась его эффективность.
Еще одним методологическим вопросом, который необходимо проговорить, для того чтобы обосновать корректность приложения постколониальной аналитической перспективы к культурной политике 19200х годов, является вопрос об инстанции колонизирующего воздействия. В принципе уже рамки, обозначенные в работе Г. Спивак, позволяют распространять ее оптику не только на классические случаи колониальной политики или ее последствия, отложившиеся в мировом разделении труда, но и на иные формы культурной гегемонии. В частности, формы гегемонии, утверждающие себя не просто через репрессивные институты господства, но и через культурные практики просвещения и модернизации.


