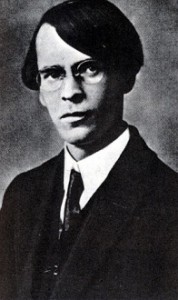Пушкин и Боратынский в поэтическом сознании Ходасевича
В России новой, но великой
Поставят идол мой двуликий
На перекрестке двух дорог,
Где время, ветер и песок.
В.Ф. Ходасевич.
«Как Ходасевич связан с Пушкиным, так он не связан ни с каким другим русским поэтом, и так с Пушкиным не связан никакой другой русский поэт», — писал В. Вейдле.[1] Постоянная обращенность Ходасевича к Пушкину, напряженные размышления о единстве пушкинского творчества и судьбы, необходимость оглядываться на Пушкина, сверяться с ним в катастрофические моменты собственной жизни и русской истории – вот тот фон, вне которого невозможно восприятие поэзии Ходасевича. О чем бы ни писал Ходасевич, он неизменно говорил с Пушкиным и о Пушкине. Пушкинизм был для Владислава Ходасевича не только сферой постоянного профессионального изучения, но и определяющим свойством личности, доминирующей особенностью его мировидения и мышления. Это было очевидно уже его современникам, которые видели в подобной позиции как слабость неизбежной вторичности (В. Брюсов, И. Эренбург), так и особую силу соединения с классической линией русской литературы (А. Белый, Ю. Тынянов).[2] В.В. Набоков в статье, посвященной Ходасевичу, назвал его «литературным потомком Пушкина по тютчевской линии»[3], а о герое «Дара», поэте Кончееве, в котором, несомненно, отразились черты Ходасевича, сказано, что «Пушкин входил в его кровь».[4] Неоднократно обращались к проблеме «Ходасевич и Пушкин» и современные литературоведы. Исследованию «сокрытой связи между профессиональной пушкиноведческой работой Ходасевича и его поэтической судьбой»[5] посвящена книга И.З. Сурат «Пушкинист Владислав Ходасевич»; рецепция поэзии пушкинской эпохи в лирике Ходасевича рассматривается в статье Н. Богомолова.[6]
И все же тайна, скрытая в пушкинизме В. Ходасевича, разгадана не до конца. Одна из сторон этой тайны – обнажение самим Ходасевичем пушкинской традиции и настойчивое стремление скрыть другую, «боратынскую» струю, которая в его лирике не менее сильна. Знаток пушкинской эпохи, автор работ, посвященных Ростопчиной, Дельвигу, Вяземскому, Ходасевич почти ничего не написал о Боратынском. В этом, незначительном, на первый взгляд, факте умолчания кроется явное противоречие, поскольку современники, отмечавшие устремленность Ходасевича к Пушкину, настойчиво сопоставляли его самого именно с Боратынским[7]. Почему же сам Ходасевич не хотел признать это несомненное родство?
В какой-то мере ситуацию проясняет позднее признание поэта ¾ финал литературной мистификации: нарочито достоверной биографии вымышленного поэта начала ХIХ века Василия Травникова. «Впоследствии более других приближаются к Травникову Баратынский и те русские поэты, которых творчество связано с Баратынским. Быть может, те, кого принято считать учениками Баратынского, в действительности учились у Травникова?».[8]
Последнее признание, несомненно, автобиографично. Ходасевича все считали учеником Боратынского ¾ он же возводил свою родословную дальше, к не существовавшему в реальности поэту большей трезвости взгляда и мрачности мысли. Судьба Василия Травникова, незаконнорожденного калеки, обреченного на потери и раннюю смерть, более соответствовала такому мировоззрению, нежели внешне почти благополучная судьба Боратынского. Можно предположить, что, провозглашая себя учеником не Боратынского, а Травникова, Ходасевич усиливал и оправдывал именно «боратынское» начало в своей поэзии; мистификация же уводила читателя по ложному следу от этого сокровенного родства. Вероятно, близость к мировидению Боратынского осознавалась Ходасевичем как своеобразная «болевая точка». В лирике Боратынского он отражался как в зеркале (вспомним близкую ситуацию, запечатленную в стихотворении «Перед зеркалом») и потому стремился скрыть это от «чужого взгляда» читателей и критиков.
«Жизнь Василия Травникова» написана в середине тридцатых годов. Поэтический путь Ходасевича был к этому времени уже завершен. Соотношение пушкинского и «боратынского» контекстов претерпело на протяжении этого пути сложную эволюцию и во многом определило характер поэзии Ходасевича.
В контексте «Счастливого домика» — второй книги стихов, в которой Ходасевич, по словам В. Вейдле, «защитился от символизма Пушкиным»[9] — обращения к лирике Пушкина и Боратынского нерасторжимы и практически неразличимы. В этом сборнике лирика пушкинской эпохи воспринимается как единое целое: поэтические открытия Жуковского, Пушкина, Боратынского, Языкова для Ходасевича в этот период лишены индивидуального облика. Наследуя традиционные стихотворные размеры (вспомним, что последнее стихотворение поэта будет посвящено четырехстопному ямбу) и элегические формулы, Ходасевич воссоздает в «Счастливом домике» общий колорит пушкинской эпохи. Традиционность «Счастливого домика» определяется попыткой Ходасевича создать идиллический мир, который в русской лирике пушкинской поры воспринимался как реально существующий, но недостижимый («давно, усталый раб, замыслил я побег// в обитель дальнюю трудов и чистых нег»).[10] Характерно, что идиллические мотивы у Ходасевича лишены иронии ¾ при общем весьма желчном и ироничном взгляде поэта на мир. Но создаваемая Ходасевичем идиллия условна, домашняя семантика книги, по выражению С.Г. Бочарова, «таит в себе изостренный диссонанс и тревожную ноту».[11] Нередко эта тревожная нота усиливается, благодаря характерно «боратынским» словам-отрицаниям: разуверение, безглагольный, безрассудный. Так, в стихотворении «К музе», отчетливо воспроизводящем лирический сюжет пушкинского «Я помню чудное мгновенье» и начало восьмой главы «Евгения Онегина», слово разуверение обнажает резкий диссонанс на фоне традиционного сюжета поэтического преображения бытия.
Аналогичная ситуация разворачивается в «Элегии» («Взгляни, как ночь пуста и молчалива…»). Ходасевич создает свою элегию словно бы по канве двух других, объединенных сюжетом возвращения, — пушкинской «Вновь я посетил…» и «Запустения» Боратынского, причем русло, в котором развивается лирический сюжет элегии Боратынского, оказывается ему ближе. Пушкинский мотив спокойной жизни и мудрой смерти разрушается именно от соприкосновения с разъедающей рефлексией, свойственной лирике Боратынского. Герой элегии Ходасевича возвращается в идиллический мир природы и юности, и сам разрушает призрачную гармонию мучительной силой памяти. И у Боратынского, и у Ходасевича возникает мотив встречи с дорогим человеком, чье бытие растворено в окружающем мире, но если в открытой перспективе «Запустения» предполагается встреча с ним, то в ранней «Элегии» Ходасевича подобный метафизический ход еще невозможен.
В «Счастливом домике» разлад двух традиций едва намечен. В третьей книге – «Путем зерна», открывающей зрелую лирику Ходасевича, он становится очевидным. Обоснованием подобного расхождения становится для Ходасевича катастрофический характер того, непушкинского пути, по которому устремилась русская история. Сумерки, в которые погружается Россия, осмысляются в русской поэзии первых послереволюционных лет как состояние, глубоко противоречащее пушкинскому свету. Эта мысль звучит в пушкинской речи Блока («О назначении поэзии»), в стихах Мандельштама, где образ «сумерек свободы» и «советской ночи» соотносится с памятью о том, как «вчерашнее солнце на черных носилках несут». О наступивших в России сумерках пишет в «Колеблемом треножнике» и Ходасевич: «Может случиться, что общие сумерки культуры нашей рассеются, но их частность, то, что я назвал затмением Пушкина, затянется дольше – и не пройдет бесследно. Исторический разрыв с предыдущей, пушкинской эпохой, навсегда отодвинет Пушкина в глубину истории. Та близость к Пушкину, в которой выросли мы, уже не повторится никогда» /2, 83-84/. Обращение к мотиву сумрачного мира здесь, безусловно, сопоставимо (даже если не связано генетически) с названием и смысловым строем последней книги Боратынского, прежде всего – со знаменитой «Осенью», где откликом на пушкинскую смерть становится образ падающей и погасающей звезды:
Пускай, приняв неправильный полет
И вспять стези не обретая,
Звезда небес в бездонность утечет;
Пусть заменит ее другая;
Не явствует ущерб земле одной,
Не поражает ухо мира
Падения ее далекий вой,
Равно как в высотах эфира
Ее сестры новорожденный свет
И небесам восторженный привет![12]
Пушкинское начало в поэтическом сознании Ходасевича отчетливо вытесняется из настоящего: оно принадлежит прошлому и, возможно, (надежда на это слабеет по мере движения автора к «Европейской ночи») будущему. Имя Пушкина остается для Ходасевича залогом гармонии, паролем, по которому посвященные будут узнавать друг друга в наступившем мраке. В поэтическом мире зрелого Ходасевича Пушкин – первооснова бытия, «млечный призыв» (Цветаева) отчего дома, вечная весть о России. Восемь пушкинских томиков – единственно прочная опора в разрушающемся мире – становятся обоснованием не кровной, а сокровенной связи Ходасевича с Россией:
России – пасынок, а Польше –
Не знаю сам, кто Польше я.
Но: восемь томиков, не больше,
И в них вся родина моя.
Вам – под ярмо поставить выю
Иль жить в изгнании, в тоске.
А я с собой свою Россию
В дорожном уношу мешке.
Вам нужен прах отчизны грубый,
А я где б ни был – шепчут мне
Арапские святые губы
О небывалой стороне. /1, 345/.
Вместе с тем поэт осознает, что история пошла по другому пути, и пушкинская поэзия не только для будущих поколений, но и для него самого отныне «родник, не утоляющий жажды»:
…Дома
Я выпил чаю, разобрал бумаги,
Что на столе скопились за неделю,
И сел работать. Но, впервые в жизни,
Ни «Моцарт и Сальери», ни «Цыганы»
В тот день моей не утолили жажды. /1, 165-167/
В книге «Путем зерна» Ходасевич пытается соотнести опыт пушкинской поэзии с реальностью. Они оказываются несоизмеримыми: реальность последовательно опровергает пушкинскую гармонию («Брента», «Второе ноября», «Дом»), причем опровержение Пушкина совершается на пушкинском же языке. Так, признание в любви к прозе в финале «Бренты» («С той поры люблю я, Брента,// Прозу в жизни и в стихах») напоминает о пушкинском: «Лета к суровой прозе клонят,// Лета шалунью-рифму гонят», но вбирает в себя собственный опыт Ходасевича, его неприятие любой лжи, в том числе и поэтической условности. Во «Втором ноября» картина крови и смерти изнутри взрывает гармонию пушкинской формы. «Пушкинский ямб, — отмечает И.З. Сурат, — здесь призван в помощь, чтобы описать и по-пушкински понять смерть как выражение «общего закона», как залог будущего прорастания новой жизни»,[13] но размер «Моцарта и Сальери» непригоден для описания повседневного хаоса и разрушения. «Пушкину есть место в трагическом мире, но ему нет места в мире насилия, разрушения, смерти, в хаосе небытия».[14] В зрелой лирике Ходасевича пушкинские реминисценции пронизаны дыханием смерти; на странное отделение души от тела в «Эпизоде» (лирическая ситуация, напоминающая о стихотворении Боратынского «На что вы, дни!») безучастно взирает «маска Пушкина, закрывшая глаза» /1, 159/.
Чем дальше Ходасевич отходит в своей поэзии от пушкинского идеала, тем ближе оказывается к миру позднего Боратынского. Отчетливое осознание кризиса цивилизации, восприятие мира как «тихого ада», трезвость и глубина поэтического видения, стремление к умалению лирического субъекта, противопоставление поэзии правды частного существования — вот те черты, которые сближают поэтические миры Боратынского и Ходасевича. Эта близость не декларируется Ходасевичем; наиболее отчетливо она проявляется в обращении к традиционным для русской лирики сюжетам.
Таков, прежде всего, сюжет стихотворения «Путем зерна» — вариация на тему евангельской притчи о зерне. Русской поэзией, начиная с Пушкина, была востребована другая, близкая к ней, притча о сеятеле. Пути сеятеля, традиционному для поэтического самоопределения, противопоставлен у Ходасевича путь зерна как воплощение общих законов бытия, «символ мистической смерти и нового рождения».[15] Стихотворение «Путем зерна» — это утверждение общей правды мироздания, единой на всех уровнях: для зерна, человека, страны, народа. Многоступенчатый параллелизм произведения Ходасевича разрушает аллегорическую двуплановость притчи. Такое ее прочтение побуждает вспомнить одно из ключевых стихотворений позднего Боратынского ¾ «На посев леса». Сходство названных произведений определяется полнотой авторского доверия мудрости земли:
И пусть! Простяся с лирою моей,
Я верую ¾ ее заменят эти,
Поэзии таинственных скорбей,
Могучие и сумрачные дети. /297/
…Затем, что мудрость нам единая дана:
Всему живущему идти путем зерна. /1, 137/.
При этом пафос Боратынского и Ходасевича глубоко различен. «На посев леса» Боратынского знаменует собой окончательный и беспощадный разрыв поэта с веком и читателем-современником. «Путем зерна» Ходасевича, напротив, становится уникальным для поэта утверждением своего единства с народом, эпохой и страной.
На пути этого утверждения Ходасевич вновь обращается к Пушкину. Необходимость глубинного преображения, нового рождения души – сродни тому, которое явлено в «Пророке», — становится основным мотивом четвертой книги стихов Ходасевича «Тяжелая лира».[16] «В тот день, когда Пушкин написал «Пророка» он решил всю грядущую судьбу русской литературы… В тот миг, когда серафим рассек мечом грудь пророка, поэзия русская навсегда перестала быть всего лишь художественным творчеством. Она сделалась высшим духовным подвигом, единственным делом всей жизни. Поэт принял высшее посвящение и возложил на себя величайшую ответственность». /1, 489/. Эти слова из статьи «Окно на Невский» становятся для Ходасевича актом поэтического осмысления. В «Балладе» («Сижу, освещаемый сверху…») лирическая ситуация «Пророка» воссоздана в гротескно-бытовом ключе:
Сижу, освещаемый сверху,
Я в комнате круглой моей.
Смотрю в штукатурное небо
На солнце в шестнадцать свечей…
…О косная, нищая скудость
Безвыходной жизни моей!
Кому мне поведать, как жалко
Себя и всех этих вещей? /1, 241/
Но через эту «косную, нищую скудость» потаенно проступают контуры пушкинского «Пророка». Преображение поэта подлинно, его жизнь обретает иной масштаб: он обречен на тяжелую лиру, и вместе с тем его жизнь оправдана ею. Следование пушкинскому завету приводит Ходасевича к вынужденному приятию своего «мертвого бытия» и «железного века».
Я сам над собой вырастаю,
Над мертвым встаю бытием,
Стопами в подземное пламя,
В текучие звезды челом…
…И в плавный вращательный танец
Вся комната мерно идет,
И кто-то тяжелую лиру
Мне в руки сквозь ветер дает. /1, 242/.
Последняя книга Ходасевича «Европейская ночь» фиксирует состояние «сумрака», охватившее уже всю европейскую культуру. Лирика Ходасевича последнего периода гротескна и вместе с тем экзистенциальна по своей сути и потому невыводима только из пушкинской традиции. Пушкинские реминисценции почти уходят из поздней лирики Ходасевича, уступая место сознательным или невольным схождениям с Боратынским. Крайнее – и одновременно бесстрастное отчаяние «Европейской ночи» соизмеримо в русской поэзии только с тем, которое отразилось в «Сумерках». Судьба человечества, осознание кризиса цивилизации, «заката Европы» (О. Шпенглер), «фельетонной эпохи» (Г. Гессе) становится определяющей темой последних книг двух поэтов. Этим объясняется и невольная близость их заглавий. «Европейская ночь» Ходасевича по своей тематике и внутреннему строю является своего рода продолжением «Сумерек» Боратынского. Здесь можно отметить лишь одно – хотя и очень существенное – отличие. Боратынский декларативно утверждал свой отказ разделить «железный путь» века. Первая строфа «Последнего поэта» (непосредственно или в отзвуке блоковского «Возмездия») подхвачена в программном стихотворении Ходасевича «Весенний лепет не разнежит…» (в структуре «Европейской ночи» оно занимает такое же место, как «Последний поэт» в «Сумерках»):
Весенний лепет не разнежит
Сурово стиснутых стихов.
Я полюбил железный скрежет
Какофонических миров. /1, 250/.
По мысли Боратынского, миссия поэта — сохранение гармонии в обреченном мире. Миссия утопическая, но ведь и «Последний поэт» — «лирическая антиутопия»;[17] финал ее итожит бытие не только поэта, но и всего дисгармоничного мироздания.
То, что было для Боратынского грозным предвестием, стало для Ходасевича объективной реальностью. Отстаивая личную непричастность к «страшному миру» повседневности («ни грубой славы, ни гонений// от современников не жду»), Ходасевич создает в «Европейской ночи» новый поэтический язык, призванный отразить предсмертные судороги европейской цивилизации:
В зиянии разверстых гласных
Дышу легко и вольно я.
Мне чудится в толпе согласных —
Льдин взгроможденных толчея.
…И в этой жизни мне дороже
Всех гармонических красот —
Дрожь, пробежавшая по коже,
Иль ужаса холодный пот. /1, 250/
Взаимосвязь «пушкинского» и «боратынского» начал в лирике Ходасевича позволяет не только увидеть всю сложность его поэтической эволюции, но и предположить, что подобная ситуация в какой-то мере применима ко многим явлениям русской поэзии ХХ века. Необходимость Пушкина и неизбежность Боратынского – вот та реальность, которая во многом объясняет пути русской лирики в ХХ веке.
[1] Вейдле В. Русская литература, 1989, № 2, с 149.
[2] Обзор критических высказываний современников о традициях поэтов пушкинской эпохи в лирике Ходасевича приведен в работе Н.А. Богомолова «Рецепция пушкинской эпохи в лирике В.Ф. Ходасевича». // Богомолов Н.А. Русская литературы первой трети ХХ века. Портреты. Проблемы. Разыскания. Томск, 1999, с. 359-375.
[3] Набоков В.В. Лекции по русской литературе. М., 1998.
[4] Набоков В.В. Собрание сочинений в 4 т., т. 3, с.273.
[5] Сурат И.З. Пушкинист Владислав Ходасевич. М., 1994.
[6] Богомолов Н.А. Рецепция пушкинской эпохи в лирике В.Ф. Ходасевича.// Богомолов Н.А. Русская литературы первой трети ХХ века. Портреты. Проблемы. Разыскания. Томск, 1999, с.
[7] Белый А. Рембрандтова правда в поэзии наших дней. О стихах В.Ф. Ходасевича // Нева. 1996. № 5. С. 210; Парнок С. Сверстники. Книга критических статей. М., 1999.; Мандельштам О.Э. Собр. соч. В 4 т. Т.2. М., 1993. С. 293.
[8] Ходасевич В.Ф. Собр. соч. В 4 т. Т.3. М., 1996. С. 115. В дальнейшем все произведения Ходасевича цитируются по этому изданию с указанием тома и страницы в косых скобках.
[9] Вейдле В.В. Поэзия Ходасевича // Русская литература, 1989. № 2. С. 147.
[10] Подробнее об этом: Хаев Е.С. Идиллические мотивы в произведениях Пушкина рубежа 1820-1830 годов. // Хаев Е. С. Болдинское чтение. Нижний Новгород, 2001, с.95-104.
[11] Бочаров С.Г. «Памятник» Ходасевича // Бочаров С.Г. Сюжеты русской литературы. М., 1999. С. 426.
[12] Баратынский Е.А. Полное собрание стихотворений. – СПб.: Академический проект, 2000, с. 268-269. В дальнейшем произведения Баратынского цитируются по этому изданию с указанием номера страницы в косых скобках.
[13] Сурат И.З. Пушкинист Владислав Ходасевич. М., 1994, с. 12.
[14] Там же, с. 12-13.
[15] Бочаров С.Г. Сюжеты русской литературы. М., 1999. С. 433.
[16] Подробнее об этом: Магомедова Д. М. Символ души в «Тяжелой лире» Ходасевича. // Магомедова Д.М. Филологический анализ поэтического текста. М., 2004, с. 180-185. Дзуцева Н.В. «Тяжелая лира» Владислава Ходасевича: опыт постсимволистской теургии // Дзуцева Н.В. Время заветов: Проблемы поэтики и эстетики постсимволизма. Иваново, Ивановский гос. Ун-т, 1999.
[17] Альми И.Л. Сборник Е.А. Баратынского «Сумерки» как лирическое единство // Альми И.Л. Статьи о поэзии и прозе. СПб., 2002. С. 182.
Филологический журнал № 1(6), Москва, 2008. С. 72-80
|
|